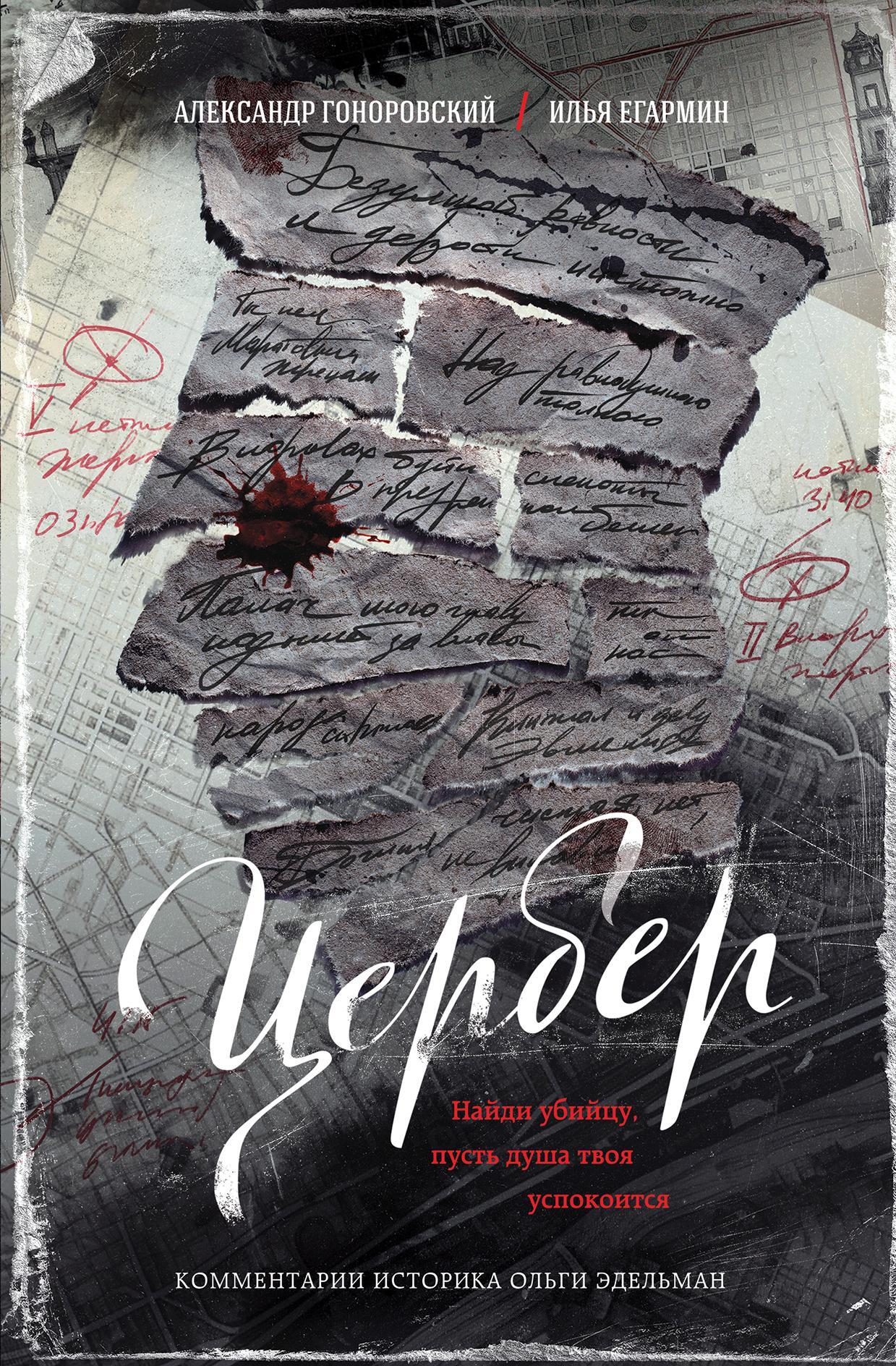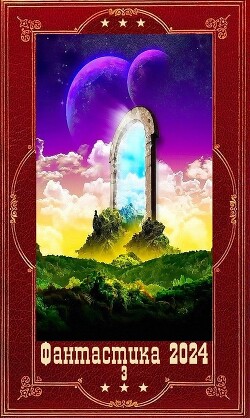ножом и снова пролетел мимо.
Его несло по камням вниз – туда, где виднелась тусклая лента канала.
– Монетку-то кида-а-а-ай! – закричал михрютка.
От крика его зашевелились дома.
Заведение мадам Сидориной было огорожено коваными прутьями. Не было слышно музыки, пьяных криков, топота, смеха. Толстые стены прятали их от соглядатаев. В окнах дрожали огоньки, будто из комнаты в комнату лениво перелетали крохотные светлячки. Казалось, что дом видит сны.
Под ногами хрустел речной песок. Улица становилась шире. На противоположной стороне стоял ещё один каменный дом. Казалось, он был построен с надеждой, что когда-то и здесь будут жить иные люди. Над окнами первого этажа из стены глядели львы. Может быть, днём в этих барельефах и можно было увидеть какую-то угрюмость, но при свете двух Северных звёзд их лица были растерянны.
Бошняк с трудом отстегнул и заткнул за пояс пистолет и вспомнил, что забыл зарядить его. Вломиться с пистолетом наперевес и со всей крепостью полномочий в публичный дом – что может быть нелепее? Впрочем, это было бы естественным продолжением всего, что случилось с ним в последнее время.
Бошняк прошёл сквозь старые разрушенные ворота и оказался перед толстой дубовой дверью; за ней еле дребезжали гитарные аккорды. Хриплый женский голос тянул:
Кто на свете неженатый,Тот счастливый человек.Кто любовью незанятый,Тот без горя век живет.
Бошняк толкнул дверь и вошёл. Навстречу ему из полутьмы, словно отражение, выплыла мадам Сидорина. Распущенные седые пряди делали её похожей на ведьму. Под мышкой мадам Сидорина несла счёты.
– Здравствуй, сокол, – щёлкнула деревянными кругляками. – Радости ищешь?
И разглядев Бошняка, добавила.
– Да ты красавчик.
С трудом она развернулась в узком коридоре, махнула пухлой, как нога, рукой, позвала за собой в залу:
– Видать, наше заведение попадёт скоро в высокий разряд.
Фальшивый гитарный перебор пробежал по стенам.
Войдя в залу, мадам Сидорина строго прикрикнула дремлющим на диванах девицам:
– Ну-ка!
При виде Бошняка они оживились, попытались принять соблазнительные позы, стараясь, как возможно, прикрыть обвисшие груди, дыры на нижнем белье, синяки, прыщи, язвы. Таких не по деревням собирают, а по канавам.
Бошняк прошёлся вдоль диванов. Фальшивые с выбитыми зубами улыбки гасли за его спиной.
– Тебя как зовут? – Бошняк остановился подле рыхлой простушки с чахоточным румянцем на круглых, как у снежной бабы, щеках.
Девица с тревогой посмотрела на мадам Сидорину.
– Лучше Джульетту возьми, – посоветовала хозяйка.
Девица с гитарой расправила гладкие плечи. Она была похожа на женщину настолько, что выглядела здесь чужой.
– Как зовут? – повторил свой вопрос Бошняк.
– Жозефина, – пролепетала девица.
– Ну Жозефина так Жозефина, – сказала мадам Сидорина и, проводив взглядом уходящую пару, добавила:
– С барышей-то можно.
На лестнице горели масляные плошки – словно нищий поджёг свои сырые лохмотья.
Спускаясь по лестнице в цокольный этаж, Жозефина ожила.
– Ничего, миленький, сейчас ты меня лучше разглядишь, – сказала, прикрывая от своего дыхания свечу. – Такой красоты ты ещё не видывал.
Глаза её радовались, будто она действительно желала этой близости.
– А почто ты меня выбрал?
– Ты самая красивая.
– А и правда, – на чахоточных щеках Жозефины появились ямочки. – Мне маменька так всегда говорила. Я и верила.
Вошли в комнату. Жозефина поставила свечу на стол.
– Зажги ещё свечей, – сказал Бошняк.
– Воск нынче дорог, – сказала Жозефина.
– Заплачу. И на тебя посмотрю.
Жозефина принесла и зажгла ещё три свечи.
Бошняк разглядел девичий шкап, сваленное в углу на стирку бельё. Одна из стен была сшита из досок.
Жозефина сидела на кровати, смотрела весело, сдвигала и раздвигала ноги.
– Бельё на тебе дорогое, – сказал Бошняк. – Такого здесь ни одной девушке не купить.
– А мне купить, – сказала Жозефина. – Мня-мня-мня…
В соседней комнате, склонившись над столом, сидел капитан Ушаков. На гвозде посреди стены висел новый мундир Измайловского полка. Свеча освещала лежащий на столе пистолет.
Ушаков обкатывал пулю меж двух дощечек. На белой повязке, стягивающей лоб, алело пятнышко крови. Левая рука висела на перевязи. Он поднёс к глазам проржавевший от крови шарик, опустил его в дуло пистолета.
– Я даже знаю, кто его тебе купил, – Бошняк положил на стол ассигнацию.
Лицо Жозефины стало серьёзным и разочарованным. Теперь она походила на девочку, которой в обман пообещали леденец.
– Ты что же, сыщик?
С улицы можно было легко разглядеть склонившегося над Жозефиной Бошняка. И сидящего за столом в соседней комнате капитана Ушакова.
Стоящий у ограды человек вытащил пистолеты. Узловатые, с крупными суставами пальцы взвели курки.
– Так, может, шумнём для разгону, красавчик? – неожиданно звонко сказал Жозефина. – А потом уж я тебе расскажу, кто бельё мне купил. Кто…
Бошняк зажал ей рот.
– Стало быть, он сейчас за стеной? – прошептал.
Ушаков прислушался, поднял голову.
В испуганных глазах Жозефины качнулись языки пламени.
Прогремел выстрел. За стеной послышался звон разбитого стекла.
– Бегитя-а-а-а, Дмитрий Кузьми-и-ич! – сорвался на визг дурной крик Жозефины.
Хлопнула дверь рядом.
Бошняк смёл со стола свечи, бросился к окну, встал в простенке, зачем-то вытащил пистолет. Ещё выстрел. Осколки брызнули в комнату.
Выглянув в окно, Бошняк увидел, как в свете луны в подворотне исчезла тень. По коридору разнёсся дробью топот босых ног.
Жозефина бросилась Бошняку в ноги, обхватила его, почувствовала под пальцами дуло пистолета, заголосила:
– Не губи, барин! Не убивай убогого! Грех!!! Гре-е-ех-то ка-а-а-ко-о-ой!
В комнату вбежали и замерли в испуге полуголые бабы. Бошняк с трудом растолкал их и оказался в коридоре.
Дверь соседней комнаты была распахнута. Бошняк вошёл. Чиркнул спичкой. Пламя сорвало сквозняком. Дом надрывался скрипом половиц. Перекрикивались испуганные голоса. Под ногами хрустело стекло, в беззубом окне висела над вымершим городом луна. В её свете на Бошняка сквозь кованую ограду смотрела львиная морда.
Бошняк нашёл на столе огарок. Огонь осветил пустую комнату. Гвоздь в стене. Шкап открыт. Одеяло сброшено на пол.
Бошняк опустился со свечой на четвереньки, заглянул под кровать. У стены что-то белело. Выбравшись, Бошняк раскрыл ладонь, поднёс свечу.
На ладони лежал белый, ещё свежий цветочный лепесток.
июль 1825 – июль 1826
Свет засверкал на шпиле Петропавловского собора. Ожили тёмные стены кронверка. На влажной от росы траве сидели пять человек. Они были закованы в кандалы, на груди у каждого висел квадрат чёрной кожи с фамилией. Поодаль стояла пахнущая свежим деревом виселица, пять пустых петель покачивались над помостом. Где-то прокричал петух, залаяла собака. Пастуший рожок звал коров из хлева. Коровы мычали, шелестели копытами.
Низкорослый полицмейстер Чихачёв поднялся на помост, развернул бумагу. Кашлянул в утреннем воздухе.
– Полтавского пехотного полка подпоручика Михайла Бестужева-Рюмина, – от волнения хрипло начал полицмейстер, – за то, что, по собственному его признанию, имел умысел на цареубийство… Изыскивал к тому средства… Сам вызывался на убийство блаженныя памяти государя и ныне царствующего государя императора…
Пестель сидел на траве среди осуждённых и не слушал. Поёживаясь от утренней прохлады, смотрел, как сквозь решётку ворот блестит в проливе вода.
Зрителей на казни было не так много. Они подходили не торопясь, зная, что всё случится ровно в означенный час. Пестель вспомнил, как один из его солдат не смог повеситься только потому, что в