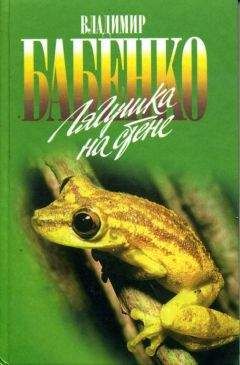Уже в душе моего номера, выпустив на волю стыдливые слезы, она покачнулась от предвкушения будущего. И вышла, распаренная горячей водой и желанием…
Я смотрел на нее неотрывно, становясь свидетелем того, как она замирает. Склонился к ее ногам, скользнул руками вдоль икр, стянул смешной узел на полотенце, потянув словно штору.
Юля боялась напугать меня, ей было страшно самой — страшно показаться мне прошедшей сквозь огонь и воду шлюхой. Она опасалась оттолкнуть меня накипевшей страстью…
Но, черт возьми, я и не думал об этом, когда брал ее на руки и нес на кровать…
«Я могу не бояться? Ты мой? Ты мой хотя бы сейчас, на эту ночь?… Я не буду думать о том, что ты уедешь завтра и больше ты можешь не вернуться. Я буду здесь и сейчас. Только с тобой», — читал я в глазах ее непрекращающийся монолог, привычно молчал, получая в ответ привычные взгляды…
О том, что время идет, мы догадались, когда рассвет налил в черную чернильницу окна синих чернил. Последний поцелуй…
Я помнил его — в каком-то смысле он был тогда первым — осмысленный, долгий.
И она уехала в Москву для того, чтобы через три дня мы встретились там, как показалось обоим, навсегда. А в январе 1941-го и муж ее, и отец были арестованы и через месяц, в середине февраля, приговорены к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение во внутренней тюрьме НКВД сотрудниками десятого отдела. Отправлять на тот свет врагов народа — это даже не работа, а почетная обязанность. Юле повезло невероятно. За три месяца до случившегося, в ноябре сорокового, она развелась с мужем. В некоторой степени ее спасло именно это — чистая случайность, знакомство со мной и желание меня. Приняв на себя роль ангела-хранителя, я тогда не думал о другом. Что все на этом свете имеет начало и конец. Никто не знал, что Германия вторгнется в СССР. Никто не знал, что за мной начнется охота.
Но тогда, жарким сочинским сентябрем, она лежала у меня на плече и шептала:
— Мы должны были встретиться снова…
— Снова? — уточнил я, относя это на счет женских загадочных фантазий. Им свойственно придумывать свой мир, проживать в нем параллельную жизнь, счастливую, и искать меж реальностью и небытием общие черты.
— Тогда, в больнице, я сидела на лавочке, и ты вернулся…
Поднявшись, я с изумлением рассмотрел ее.
— Я не Джуди Гарленд.
Я знаю, на Гарленд она была не похожа, потому что сейчас лежала подо мной жгучая брюнетка.
— Стоило всего лишь перекраситься, или ты просто забыл меня сразу, как сказал «Всего хорошего»?
Я не мог произнести и слова.
— Когда спустился вниз и проходил мимо, я увидела, как ты красив и мил… а в нескольких метрах от меня умирал мой папа… И я подумала — отчего все так? Почему те, кого я жду, проходят мимо, а кого я люблю — умирают? И я взмолилась: вернись… Я жгла взглядом спину твою и верила, что, если ты вернешься, все будет хорошо…
— Значит, причиной тому, что мы сейчас вместе… — Я не договорил.
— Мой взгляд, который ты не видел, но почувствовал… Налей нам шампанского?
И я налил.
* * *
И вот сейчас, когда Серый потребовал командирам и коммунистам выйти, я почувствовал чей-то взгляд.
Я упрямо смотрел под ноги, обещая себе не поднимать глаза. На смену рыцарю во мне пришел рассудительный обыватель. Он-то и шептал мне, что нельзя поднимать голову — как только я сделаю это, меня выведут из строя.
Но вся суть моя, все могущество мое встрепенулось, и рыцарь взмахнул мечом, и гнусный обыватель, качнув меня криком, заставил сделать то, что делать было нельзя.
Я поднял голову и стиснул зубы. Я не мог больше выносить этого неотрывного взгляда.
И мне не пришлось искать долго того, кому он принадлежал.
На меня исподлобья смотрели глаза штандартенфюрера СС, который вел со мной непринужденную беседу тремя сутками ранее.
— Терпение господина штурмбаннфюрера иметь конец, — громко проговорил Серый. — Командиры и коммунисты сделать пять шаг вперед!
Строй не шевельнулся.
А я продолжал смотреть в глаза замершему в ожидании полковнику.
Что-то было сказано еще. Я не помню. Я смотрел в глаза полковнику, он смотрел в мои.
Поправив на голове фуражку, штандартенфюрер оторвал от меня взгляд, коротко приказал:
— Заканчивайте! — развернулся и направился к «Мерседесу».
Машина уезжала с площади, когда штурмбаннфюрер, вынув из кобуры «парабеллум», начал обход поредевших шеренг. Я смотрел на висящего старика, с чьих изувеченных рук еще капала кровь, и слушал:
— Юде?
— Что?…
Выстрел. Шум падающего тела.
— Юде?
Молчание.
Выстрел. Сиплый стон, неясный шум.
Справа от меня, через Мазурина, стоял темный, похожий то ли на кубанского казака, то ли на дагестанца мужчина лет тридцати пяти. Он моргал вяло, духота и отсутствие воды размяли его, как пластилин.
— Юде? — Штурмбаннфюрер сделал мне одолжение, не опознав во мне сына Израилева, и сейчас пристрастно заинтересовался кавказцем.
— Нет, — едва слышно запротестовал тот, — я не еврей.
— Прикажи ему снять брюки! — потребовал штурмбаннфюрер, и Серый перевел.
Кавказец, недолго провозившись с ширинкой, спустил штаны.
— Еще! — потребовал Серый.
Одурев от страха и непонимания происходящего, мужчина спустил трусы.
— Он обрезан, — удовлетворенно заключил Серый.
— Я редко ошибаюсь, — засмеялся немец и поднял руку…
Горячие мозги ошпарили мое лицо.
— Да он же мусульманин! — дико закричал стоящий справа от меня молодой парень. — Это Давид Загаев, сапожник наш!..
Выстрел. Штурмбаннфюрер стрелял под углом к жертве, почти вдоль строя. Пуля прошла по крайней мере в пяти сантиметрах от моего лица и вонзилась в голову парня. Тот рухнул как подкошенный. Я остался стоять посреди этого праздника смерти.
— Что он сейчас сказал? — подумав, спросил вдруг эсэсовец у Серого.
— Он представился, герр штурмбаннфюрер. Сказал, что его зовут Давид. Прекрасный выстрел. Вас не проведешь.
И оба рассмеялись.
— Построиться колонна по четыре человека!
Мы выходили из села под конвоем нескольких эсэсовцев.
Через полчаса я с ужасом увидел, что отовсюду, со всех сторон, словно в страшном сне — из лесов, по дорогам, по полям бредут к дороге, подгоняемые конвоем, такие же колонны, как наша… Я насчитал по крайней мере двенадцать…
Окружение советских войск под Уманью было завершено.
К обеду мы слились в одну, страшную по своим размерам вереницу. Я не видел ни хвоста этой колонны, ни головы. Огромная, кишащая страхом и предчувствием смерти змея волокла десятки тысяч человеческих жизней…
Куда — я не знал.
Если бы при выходе из села нам не дали напиться из журавля, мы бы не дошли.
— Мы должны выжить, Касардин, — прохрипел, шатаясь, Мазурин.
Я не возражал.
* * *
Нас гнали, как скот, по пыльной дороге, впрочем, мы и были похожи на стадо. Бессмысленные, обреченные взгляды в поясницу впереди идущего. Шаг — след в след. Нас гнали куда-то, мы куда-то шли.
Справа и слева, объезжая воронки и рытвины, катились, треща, мотоциклы. Иногда, от нечего делать, для того, видимо, чтобы развлечь себя и нас, кто-то из немцев в люльке разворачивал пулемет и давал короткую очередь. Кто-то падал замертво, кто-то получал ранение, и его добивали позже. Упавших от усталости не щадили, никому не позволяли нести слабых — их ждала горькая участь: через несколько секунд после падения они оказывались мертвы. Выстрел в голову. Очередь, заставляющая тело судорожно сжаться и разжаться, и — все…
Нас гнали по дороге, и я уже догадывался, что — в сторону Умани. Зачем?… Что с нами там собираются делать?
Чтобы отвлечь себя, я думал о том, куда увезли женщин, детей и стариков…
И когда нас догнал и объехал грузовик с номером, последние цифры которого были 52, понял… Догадался по кровавому следу, оставленному на борту. Убивали их, судя по всему, прямо у грузовиков. Велели спрыгнуть и расстреляли у машин, чтобы далеко не ходить…
Через четыре часа колонна вошла в Умань. Еще полчаса ушло на обход города справа, и вскоре я увидел то, от чего сердце мое едва не оборвалось.
Это был карьер. Глубокий, больше стадиона, больше нескольких стадионов, карьер. Вырыт ли он за несколько дней немцами, или отсюда брали глину для кирпичей давно — этот вопрос был совершенно лишним, так как если котлован фашисты собирались использовать по назначению, по тому назначению, которое мне подсказывает моя усталость и уже случившиеся события, то разницы никакой нет. Сюда войдут все.