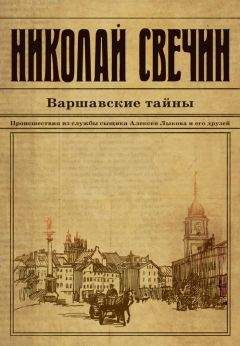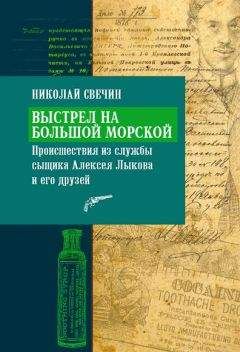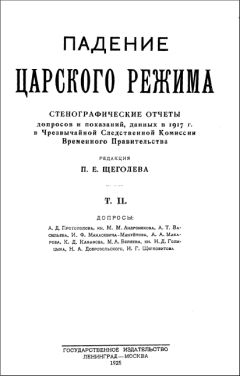— Генерал Брок! Почему ваше управление ничего не сообщало мне о создании в Варшаве боевой организации националистов?
— Виноват, ваше высокопревосходительство!
— В чем именно виноваты?
— Я не располагаю никакими сведениями об этом.
— Лыков пытался заручиться вашим содействием, сообщить эти самые сведения. Но наткнулся на некоего Маркграфского. Кто он такой?
— Ротмистр Маркграфский — старший адъютант окружного управления. Очень способный розыскник! Он докладывал мне о приходе чиновника, командированного из Петербурга в здешнюю сыскную полицию…
— И что?
— Командированные обычно приезжают сюда за легким успехом, с целью получить отличие. У ротмистра сложилось впечатление, что чиновник хочет выпросить орден… за поим ку выдуманных террористов…
— Орден? — Гурко покосился на Лыкова. — Их у коллежского асессора и так много. Больше, чем у некоторых генералов. Передайте ротмистру Маркграфскому, что он идиот.
— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!
— Якобы придуманные террористы казнили трех офицеров и чуть было не устроили погром в Варшаве. Вон, одних револьверов отобрано более тридцати… А по вашим отчетам, в Царстве Польском тишь да гладь! Все поляки до единого заняты мирным трудом! Это вы называете честной службой? Вы за что содержание получаете, господин генерал-лейтенант?
Брок, в отличие от Толстого, не покраснел, а побледнел. Но не решился возражать и стоял, держа руки по швам.
— Вам я объявить ничего не могу, но войду отношением к шефу Корпуса жандармов. Где откровенно выскажусь об вашей службе.
Гурко замолчал, теребя седые бакенбарды в стиле покойного государя. Потом сказал с непередаваемым презрением:
— Свободны оба.
Генералы, толкаясь, как школьники, выбегающие на перемену, ринулись прочь из кабинета. Когда они ушли, Гурко поднялся из-за стола и протянул коллежскому асессору малень кую крепкую руку.
— Благодарю за службу! Кстати спросить: не желаете перевестись сюда? Сами видите, что здесь творится с кадрами. Надо их укреплять.
— Генерал Толстой мне не обрадуется.
— Плевал я на его радости! Мне… да и всей России нужны в Польше достойные люди. Иначе упустим этот край. А сюда, наоборот, едут всё больше те, кто служить не хочет или не может.
— Спасибо за предложение, ваше высокопревосходительство. Вынужден отказаться.
Гурко смотрел на него несколько секунд, понял, что решение твердое, и не стал уговаривать.
— Жаль. Какого вы мнения о надворном советнике Гриневецком?
— Я считаю, он на своем месте.
— Вам скоро уезжать, а Млына-Пехур все еще на свободе. Гриневецкий сумеет поймать его без вас?
— В конце концов справится. Может, не сразу… Потом, я еще никуда не уезжаю. Поручение я, правда, выполнил, преступников установил. Большая их часть арестована. Но пока нет приказа из министерства, буду помогать сыскной полиции.
— Ну, авось и успеете до отъезда! Я вам больше доверяю, чем здешним. И кстати, личная от меня признательность за поимку убийц ротмистра Емельянова. Я знал этого офицера. Порядок в его эскадроне был образцовый! Когда ротмистр перешел в полицию, то и там завел те же строгости. Держал панов в кулаке. Так и должно поступать с ними! Поляки должны чувствовать суровость русской власти, иначе совсем перестанут подчиняться. А обер-полицмейстер пляшет под их дудку…
На этом аудиенция закончилась. Лыков не решился доказывать генерал-губернатору, что командовать эскадроном и полицейским участком — разные вещи. И то, что проходит с солдатами, не всегда годится для свободных людей… Не стал он сообщать и о том, что помогать полиции ловить Пехура будут варшавские уголовные.
Когда коллежский асессор вернулся в управление, первым ему попался сияющий Егор. Ссылка у парня закончилась, и он вновь стал лыковским помощником. Более того, с перепугу Толстой отослал в Петербург представление на него к следующему чину! К вечеру появился и Гриневецкий, тоже повеселевший. Он уже знал откуда-то, что висел на волоске. А Лыков дал ему у Гурко хорошую аттестацию… В итоге жмуд и двое русских завалились вечером в кафе-концерт на Кролевской и обильно угостились там на счет Эрнес та Феликсовича. Говорили о чем угодно, только не о том, как поймать Ежи Пехура. Но тот сам напомнил о себе. Пока сыщики отдыхали, «беки» подожгли квартиру Алексея на Гусьей улице. Он лишился всего имущества, уцелели только награды, которые Лыков не успел снять после возвращения из Лазенок.
В итоге коллежский асессор переселился в здание ратуши, под охрану городовых. Обер-полицмейстер уплотнил прислугу в своей казенной квартире на четвертом этаже. Коман дированному досталась маленькая комната без удобств, окнами во двор. В уборную ему теперь приходилось наведываться через генеральские покои, пугая своим появлением пятерых детей Толстого.
Но это было еще полбеды. Коллежский асессор из охотника превратился вдруг в добычу. Он ловил Ежи Пехура, а террорист в это же время ловил его самого… Когда Лыков на другой день выходил из Белянского участка, в него выстрелили из проезжающей пролетки. Пуля легко оконтузила голову. Через сутки на сыщика напали, когда он обедал в ресторации. Лыков был настороже и дал «бекам» отпор. Одного положил прямо в зале, а второго, раненого, загнал в подворотню. Где его и захватили городовые… Казалось бы, после такого можно ходить гоголем, но нервы у Лыкова вдруг начали сдавать. Легко ли жить, ежесекундно ожидая пули? А надо нести службу, общаться с людьми, передвигаться по городу. Низкий чин сыщика не давал ему права на охрану. Агенты, встречаясь с ним теперь на улице, торопились свернуть разговор и быстро удалялись, озираясь. Будто прокаженный!
Только верный Иванов не бросил начальника в беде. Выйдя раз на Сенаторскую, коллежский асессор через десять шагов развернулся и схватил какого-то прохожего за плечи. Это оказался Егор, неумело загримированный, с криво приклеенной бородой. Лыков тут же отвез парня на извозчике к нему на квартиру. И заставил побожиться матери на образах, что не будет больше рисковать, прикрывая шефа…
Психоз Лыкова нарастал. Он плохо спал, сделался раздражительным. В каждом прохожем ему мерещился боевик. Раз, перекусывая в огродке,[72] он вдруг с ужасом увидел прямо перед собой Млыну, переодетого под немца, в рыжем парике. Он недобро в упор смотрел на сыщика. Прикидывал, гад, как удобнее его пристрелить. А из угла косились двое подручных Пехура. Лыков осторожно полез за спину, нащупал рукоятку «Веблея», молниеносно вытянул его и одновременно взвел. Млына заметил это и тоже схватился за карман. Кто кого? Увидев дуло револьвера, отчаянный террорист вдруг закричал «Майн готт!» и полез под стол… В огродке поднялась суматоха, люди начали выбегать на улицу, причем первыми смылись «подручные».
Поняв, что обмишурился и напугал мирных обывателей, Алексей поспешил уйти. Вечером он рассказал эту историю Гриневецкому. Тот даже не улыбнулся.
— Алексей Николаевич, езжай-ка до дома! Свое дело ты сделал, а Пехура мы без тебя изловим. Так?
— Приказа еще нет.
— А ты так езжай, без приказа. Пока совсем не свихнулся…
— Не уеду! — упрямо сказал Лыков, хотя ему очень хотелось сбежать из Варшавы. — Получится, будто я боюсь этого Пехура!
— Ну и что? Я тоже его боюсь. И все боятся. Млына шутить не станет.
— Вот вы все и бойтесь, а я не хочу! — грозно заявил Алексей, но в душе его уже поселился липкий, противный и неотвязный страх. Вечером в комнате он попробовал сломать рубль — и не сумел. Дальше ехать некуда…
Но Гриневецкий не унялся. Утром он собрал у себя в кабинете Лыкова, Егора и капитана Бурундукова. И заявил:
— Алексей Николаевич! Я понимаю, что ты подкован и по-летнему, и на шипы. Вся грудь в орденах! Но выдали патент на твой отстрел. Предлагаю всем сейчас поразмыслить, в каком образе станет подбираться к тебе Ежи Пехур. Чтобы знать, кого опасаться.
— Я уже думал об этом, — заявил Бурундуков. — И вот что пришло мне на ум. В Варшаве пруд пруди наших офицеров. Для Алексея Николаевича человек в мундире — свой. Он не станет такого опасаться. На месте этого Млыны я бы переоделся офицером.
— Разумно, — согласился Эрнест Феликсович. — Очень даже разумно. Но еще больше в Варшаве евреев. Каждый третий! Их Лыков тоже не боится и легко подпустит на удар ножа.
— Вы оба полагаете, что Алексей Николаевич подсознательно обращает внимание только на поляков, — вступил в разговор Иванов. — Так?
— Они, пожалуй, правы, — ответил за приятелей Лыков. — Я сейчас порылся в своей башке и соглашусь. Да, я инстинктивно отслеживаю и оцениваю встречных панов. И всегда настороже, когда они проходят мимо. А офицера или еврея могу подпустить.
— Есть и поляки, которые кажутся вам безобидными.