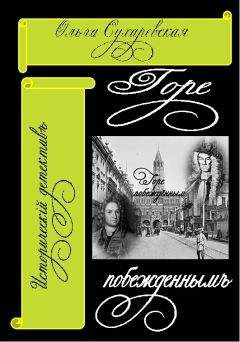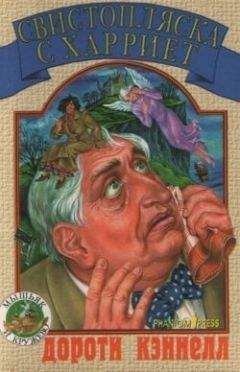- Не советую, Вилим Яковлевич, – насупился Канделябров. – Ипатов у нас - птица необстрелянная. Там действительно опасно, да и себя подставите.
- Надо же ему когда-нибудь и обстреляться! – отрезал Собакин. – Решено.
- Ну, не знаю, давайте его шлындрой, что-ли, или девахой нарядим, – с сомнением протянул Спиридон.
-Это кто ж, такие? – насторожился Ипатов.
- Шлындра - проститутка. Деваха - подружка вора, – с видимым удовольствием ответил Канделябров.
- А почему нельзя мужчиной, Спиридон Кондратьич? – возмутился молодой человек.
- Порежут. А так, может, жив останешься.
- Не пугай его, Спиридон, – покачал головой Собакин. - Это он шутит, не бойтесь. Конечно, всякое бывает, но ведь вы идёте не один, а со мной.
Ипатов старался не показать своего ужаса, но по выражению лица Канделяброва понял, что дело затевается нешуточное.
Тем временем, начальник обошёл его кругом и, прищурив глаз, сказал Спиридону:
- Ты прав, надо сделать его моей девахой.
Отец Меркурий вытаращил глаза. Он, конечно, не первый год знал племянника, и многое повидал у него в доме, но сборы к уголовникам видел впервые, а потому с любопытством отправился со всей сыскной командой в маскарадную, где началось преображение племянника в заезжего вора, а Ипатова - в его зазнобу.
Через какой-нибудь час младший Собакин порыжел головой и бровями, у него припухли и покраснели глаза, у рта появились глубокие морщины, руки, шея и лицо приобрели нездоровый землистый оттенок, а под ногтями появилась траурная кайма. Сыщик оделся с претензией на воровской шик в виде дорогой пёстрой жилетки и хромовых сапог. Все превращения Вильям Яковлевич произвёл над собой сам. А вот Ипатов был полностью произведением рук Спиридона. Тот иногда отбегал от молодого человека, с прищуром оглядывал его и опять бросался наводить «красоту» на будущую мамзель. Отец Меркурий неодобрительно качал головой. Сначала Канделябров чисто выбрил мо;лодца, нарисовал ему лицо, напудрил и надел кудлатый парик.
- Ну, у тебя и портрет! – радовался он. – Первый класс! Ни одной определённой линии, ни одного яркого цвета. Рисуй, что хочешь.
На такие оскорбительные речи Ипатов не отвечал, а только мотал головой и ойкал, когда Канделябров выщипывал ему в тонкую ниточку его белёсые брови и сурьмил их дочерна. Накрасив ему губы, Канделябров не удержался и в творческом порыве влепил молодому человеку кокетливую родинку на левую щёку.
- Ты не очень-то усердствуй, Айвазовский, – осадил его Собакин. – Нам из него завлекалку делать ни к чему.
- Тогда давайте выбьем у него все зубы, – предложил в ответ Канделябров.
- Все не все, а парочку убери, – согласился Вильям Яковлевич. – И руками его займись.
После Спиридоновых трудов у бедного Александра Прохоровича появился отвратительный зубной провал, руки, от втирания какой-то дряни, посерели и загрубели, под ногтями появилась грязь, а на пальце грошовое колечко со стеклянным камушком.
- Раздевайся, – скомандовал «Айвазовский», - буду тебе делать формы.
На него надели лиф с ватными грудями и панталоны с вшитыми сзади тряпичными округлостями. Потом нарядили в синее саржевое платье в горошек и зелёный плюшевый жакет.
- Не в талию, – покачал головой Спиридон. – Скинь-ка, я тебе мигом жакетик на машинке обужу.
И бросился к «Зингеру».
Когда Канделябров подтолкнул Ипатова к большому зеркалу, он себя не узнал. Это была разбитная, повидавшая виды девица, постарше самого Александра Прохоровича, в вытертой фетровой шляпке и неприлично короткой юбке, которая открывала щиколотки в грязных чулках и стоптанных башмаках.
Открыв щербатый рот, мамзель возмутилась:
- Спиридон Кондратьич, чтой-то платье у меня такое короткое?
- Интересно, а чем ты будешь мужчин соблазнять, мать моя? – поднял бровки Канделябров.
- Я что-то не понимаю, – обратился молодой человек к своему начальнику, который с видимым неудовольствием жевал сухую травяную смесь из большой жестяной банки. – Зачем мне кого-то соблазнять? Я же ваша, Вильям Яковлевич!
- Тьфу ты! – плюнул в сердцах отец Меркурий.
- Для куража, – ответил за Собакина Спиридон и предложил: - Пожуй-ка тоже этой травки.
- Это ещё зачем?
- Голос меняет. Этот сбор на каждого по-разному действует, но часов шесть своим голосом говорить не будешь.
- Кондратьич прав, – странным свистящим шёпотом сказал начальник. – Это вам не помешает. У вас, Ипатов, тембр голоса совершенно мужской. Без привычки, в сложной обстановке можно вдруг и забасить, а там люди серьёзные – маскарадов не понимают, – и добавил: - Не удивляйтесь на моё шипение. Так на меня действует эта смесь. Голос становиться дребезжаще-свистящим. Там, меня знают именно таким.
В угаре работы никто не обращал внимания на отца Меркурия. Он стоял столбом посреди маскарадной и только сокрушённо мотал головой, наблюдая за происходящим. А когда Ипатов перед уходом с жалкой щербатой улыбочкой тоненькой фистулой (травка подействовала) попросил у него благословения, священник поднял было руку, но вдруг опустил её и в сердцах плюнул.
Не дожидаясь тирады родственника, Собакин подхватил за талию помощника и оба они скрылись в вечерних московских сумерках.
***
- Запоминайте, Ипатов, - дребезжал начальник в самое ухо Александра Прохоровича, когда они тряслись на извозчике в сторону Хитрова рынка – Зовут меня Яша Нерчинский или по-другому – Клоун. Для хитровских я спец по укрыванию «обратников» - беглых с каторги. На самом деле этим занимается целая банда, которая сидит на крючке у полиции. Меня «признал» и ввёл в «обиход» их авторитет Лёнчик-Юшка. Власти повязали его, по-тихому, пять лет назад. С ним работал блестящий следователь – Иван Филиппович Маканин и, как результат, – вся банда теперь под контролем полиции. Беглую мелочь пропускают, а крупную рыбу отсеивают и отправляют якобы заграницу и так далеко, что их больше никто и никогда не видит. Вот там меня и «прописали». Хотя, я только один из связны;х и бываю в Москве наездами.
- А почему Клоун?
- Для страху. «Делать клоуна» – на воровском жаргоне означает обезображивать лицо. Такое делают и с трупом, чтобы не опознали, и с человеком, который хочет «замести следы», изменив внешность. Тот, кто сам этим промышляет или имеет надёжного медика для такой операции, всегда в авторитете. Их опасаются, ещё и потому что это, как правило, отморозки.
- Куда мы сейчас? – поёжившись, спросил Ипатов.
- В трактир «Сибирь». Это в Петропавловском переулке. Нам нужен Федя Рыжик. Но к нему без протекции не попадёшь. Он обитает в «Сухом овраге». Так называют зловонные ночлежки, которые находятся позади «Утюга» - углового дома, что выходит на Хитровскую площадь.
- «Утюг» я знаю. Там - одно ворьё.
- Это вотчина уголовников. Нам туда. Эх, с землёй бы сравнять эту Хитровку и застроить красивыми домами, ан – нет. Сколько не бьётся общественность – всё без толку. В центре города - такая гниль!
- Что мешает?
- Хозяева этих ночлежных домов и дешёвых меблирашек – солидные и уважаемые люди – получают такие прибыли, каких в других местах ни за что не получишь. Вот и дают «золотого барашка» кому надо, чтобы не трогали Хитровку.
- А этот Федя Рыжик, что – авторитет? Больно неказистая у него кличка. Бандиты любят себя козырными тузами называть.
- Федя – человек серьёзный, – возразил Собакин. - «Рыжиками» у воров называют золото. Федя его любит до дрожи в руках, потому и кличка у него такая. Говорят, что где-то в подземелье у него, как у скупого рыцаря, зарыты сундуки с золотом. Врут должно быть, но свою воровскую долю он берёт только золотом.
- А если украли, допустим, драгоценный камень?
- Человек из банды продаст его «ямщику» - скупщику краденного, в обмен на золото и принесёт Феде его часть.
Возница остановился в начале Солянки.
- На Хитровку не повезу, – обернулся он к ездокам. – Я к ночи туда ни ногой и порядочным гражданам не советую.
Расплатившись, парочка неспешно двинулась к площади.
- Надо было идти со стороны Покровки или Яузы, как «деловые», - просипел Собакин. – Ну, да ладно. Мало ли я откуда гуляю свою кралю.
Совсем стемнело. У Ипатова было ощущение, что он и не в Москве вовсе. Их обступили обшарпанные дома с окнами, слепыми от грязи, заколоченными досками или завешенными тряпками. Казалось, что двери в эти зловонные ночлежки вели в бездну. Даже в такую сухую погоду сыщики то и дело обходили склизло-вонючие лужи.
В потёмках главной московской трущобы, мимо них то и дело шмыгали какие-то оборванцы. Парочка вышла на площадь, где тускло горел единственный фонарь. Посередине темнел длинный деревянный сарай с большим навесом. С утра здесь гудела биржа всякого сброда: копеечных разнорабочих, сомнительной прислуги и подёнщиков в надежде на заработок. Одним словом: «плохо не клади и близко не подходи». После полудня Хитровкой завладевал мелкий торговый люд. По всей площади на лавках и земле раскладывался третьесортный товар московской голытьбы. А сейчас, впотьмах, прячась под навес, местные торговали тем, что на свет не покажешь: «живым» товаром, самогоном и «травкой».