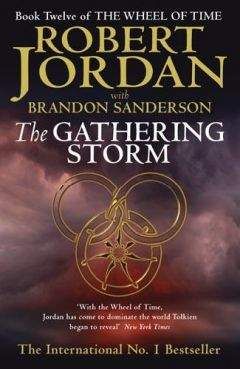– Да. – Вздернув подбородок, миссис Карлайон высокомерно глядела на него сверху вниз. – Наш сын был любим и уважаем всеми. И достиг бы еще большего, не будь он убит. Убит ревнивой женщиной.
– Ревнивой к кому? К своему ребенку?
– Опять эта нелепая вульгарность! – бросила Фелиция.
– Да, звучит вульгарно, – согласился адвокат. – Но это правда. Ваша дочь Дамарис знала обо всем. Как-то случайно она застала…
– Вздор!
– И столкнулась с этим снова, встретив своего сына, Валентайна… Она тоже лжет? И мисс Бушан? И Кассиан? Или они все пали жертвой одной и той же болезненной фантазии, причем не сговариваясь, а то и не зная друг о друге?
Свидетельница вновь промолчала, не желая выставлять себя на посмешище.
– А вы сами ничего не знали, миссис Карлайон? Ваш муж осквернял вашего сына до тех пор, пока вы не послали его служить в армию кадетом. Не потому ли вы настояли на этом – чтобы спасти его от поползновений мужа?
Атмосфера в суде накалилась до предела. Присяжные были похожи на ряд висельников. Чарльз Харгрейв выглядел совсем больным. Бледные Эдит и Дамарис сидели бок о бок с Певереллом.
Лицо Фелиции отвердело, а глаза ее зажглись огнем.
– В армию уходят юношами, мистер Рэтбоун. Может быть, вам это не известно?
– Что же оставалось делать после его ухода вашему мужу, миссис Карлайон? Вы не боялись, что он начнет проделывать с детьми своих друзей то же, что проделывал с собственным сыном?
Свидетельница молчала, не сводя с Оливера глаз.
– Или вам пришлось снабжать его иными подростками, посыльными, например? – безжалостно продолжал защитник. – Это безопаснее, не правда ли? Посыльный не затеет скандала – стало быть…
Он замолчал, глядя на нее в упор. Фелиция была на грани обморока. Она покачнулась и ухватилась за перила. Толпа взревела.
Ловат-Смит поднялся на ноги.
Рэндольф Карлайон издал сдавленный крик, и лицо его побагровело. Он задыхался, но люди, сидящие рядом, лишь брезгливо от него отодвинулись. Судебный пристав приблизился к полковнику и весьма непочтительно ослабил галстук у него на шее.
Рэтбоун не терял времени.
– Вы так и поступали, не правда ли, миссис Карлайон? – продолжал он. – Вы раздобыли другого мальчика своему мужу. А может, поставляли ему многих, одного за другим, пока он не постарел и, казалось, стал безопасен… Но вам не удалось защитить от него собственного внука. Почему вы допустили это, миссис Карлайон? Почему? Неужели ваша репутация стоит таких жертв? Стольких загубленных детских жизней?
Фелиция оперлась на перила. Ненависть пылала в ее глазах.
– А чего бы вы хотели, мистер Рэтбоун?! – выкрикнула она. – Предать его публичному поруганию? Разрушить потрясающую карьеру? Карьеру человека, столько раз сражавшегося с врагами империи, шедшего с гордо поднятой головой на верную смерть? Человека, вдохновлявшего солдат на подвиги? Из-за чего? Из-за инстинктов! В мужчинах всегда были сильны инстинкты! Что я могла поделать? Сказать людям? – В ее голосе зазвучало презрение, и она уже не обращала внимания на угрожающий ропот толпы. – Сказать – кому? Кто бы мне поверил? К кому мне следовало обратиться? Женщины не распоряжаются собственными детьми, мистер Рэтбоун. Не имеют собственных денег. Мы принадлежим нашим мужьям. Мы даже не можем покинуть дом без их согласия, а он бы на это никогда не согласился. И уж тем более не отдал бы мне сына.
Судья стукнул молоточком и призвал зал к порядку.
Голос Фелиции стал пронзителен от гнева и горечи:
– Или вы бы предпочли, чтобы я убила его – как Александра?! Вы бы одобрили это? По-вашему, каждая женщина, муж которой изменяет, издевается над ней или мучает ее ребенка, должна обагрить руки кровью?!
С искаженным лицом она глядела на адвоката и продолжала:
– Поверьте, это еще не самое худшее! Мой муж был ласков со своим сыном, проводил с ним много времени, никогда не бил его и не оставлял без обеда. Он дал ему прекрасное образование и обеспечил блестящую карьеру. Он был любим и всеми уважаем. И вы хотели бы, чтобы я утратила все это, выдвинув против него дикое и злобное обвинение, которому никто не поверит? Или оказалась на скамье подсудимых и была повешена – подобно ей? – Пожилая леди кивнула на свою невестку.
– Неужели вы видите только эти две крайности, миссис Карлайон? – мягко спросил Оливер. – Либо потворствовать растлению малолетних, либо убить?
Женщина молчала, бледная, одряхлевшая буквально на глазах.
– Благодарю вас, – сказал адвокат с невеселой улыбкой. – Именно это я и хотел доказать. Мистер Ловат-Смит?
Люди в зале, на время присмиревшие, наконец-то перевели дух. Присяжные казались вымотанными до предела.
Уилберфорс медленно поднялся. Он тоже выглядел не лучшим образом. Приблизившись к возвышению, обвинитель пристально всмотрелся в лицо Фелиции и отвел глаза:
– У меня нет вопросов к этому свидетелю, милорд.
– Вы свободны, миссис Карлайон, – холодно произнес судья. Он хотел еще что-то добавить, но передумал.
В полной тишине пожилая дама по-старушечьи неловко сошла по ступенькам и проковыляла к двери.
Судья взглянул на Оливера:
– У вас есть еще свидетели, мистер Рэтбоун?
– Я хотел бы вызвать еще раз Кассиана Карлайона, милорд, если вы не возражаете.
– Есть ли в этом необходимость, мистер Рэтбоун? Вы уже доказали свою точку зрения.
– Не совсем, милорд. Этот ребенок, помимо отца и деда, терпел унижения от кого-то еще. Полагаю, мы должны выяснить, кто был этот третий.
– Если вы считаете, что сможете это сделать, пожалуйста, вызывайте. Но если мальчику будет грозить новое потрясение, я прерву вас. Вам это ясно?
– Да, милорд, совершенно ясно.
На возвышение снова поднялся Кассиан – маленький, бледный, тихий…
Адвокат шагнул вперед:
– Кассиан, из показаний твоей бабушки нам стало ясно, что твой дед занимался с тобой тем же, чем и твой отец. Поэтому мы не просим тебя подтверждать это под присягой. Но был еще один мужчина, и нам очень нужно знать его имя.
– Нет, сэр, я не могу вам сказать, – покачал головой ребенок.
– Я прекрасно тебя понимаю. – Оливер выудил из кармана изящный перочинный нож и протянул его Кассиану. – У тебя есть такой нож, очень похожий?
Юный свидетель посмотрел на красивую вещицу и зарделся.
Эстер метнула взгляд на Певерелла. Тот выглядел смущенным, но не более.
– Вспомни, как нам важна правда, – произнес Рэтбоун. – У тебя есть такой нож?
– Да, сэр, – невнятно пробормотал мальчик.
– А брелок для часов? Золотой, с изображением весов правосудия?
Кассиан сглотнул:
– Да, сэр.
Рэтбоун достал из кармана шелковый носовой платок.
– И такой платок – тоже?
Мальчик побледнел еще сильнее:
– Да, сэр.
– Откуда они у тебя, Кассиан?
– Я… – Ребенок зажмурился.
– Разреши, я помогу тебе? Их тебе подарил твой дядя Певерелл Эрскин?
Певерелл встал, но Дамарис так яростно дернула его за руку, что он чуть не потерял равновесие.
Свидетель молчал.
– Он подарил их тебе, не так ли? – настаивал Оливер. – И ты обещал ему никому не говорить?
По щекам мальчика покатились слезы.
– Кассиан, он – тот самый третий мужчина? – настаивал адвокат.
С галереи донесся вздох.
– Нет! – отчаянно и пронзительно закричал мальчик. – Нет! Это не он! Я сам взял эти вещи! Я украл их… поскольку хотел… чтобы они у меня были!
Александра на скамье подсудимых разрыдалась, и одна из охранниц с неуклюжей заботой положила ей руку на плечо.
– Они настолько красивы? – недоверчиво переспросил Рэтбоун.
– Нет! Потому что он добрый! – крикнул Карлайон-младший. – Он был… Он никогда не делал со мной этого! Он просто мой друг! Я… – Кассиан всхлипнул. – Он мой друг.
– О, вот как? – Оливер разыграл сомнение, хотя и его голос предательски дрогнул. – Но если это не Певерелл Эрскин, тогда кто же? Скажи, кто это был, и я тебе поверю.
– Доктор Харгрейв! – Ребенок расплакался и сполз по перилам на пол. – Доктор Харгрейв! Он! Он! Это он!!! Я ненавижу его! Это он! Запретите ему! Дядя Пев, запрети ему!!!
По галерее прокатился вопль ярости. Двое мужчин уже держали за руки Харгрейва, к которому спешил судебный пристав.
Адвокат поднялся на возвышение для свидетелей, помог мальчику встать и провел его вниз, где передал спустившемуся с галереи Певереллу Эрскину:
– Ради бога, присмотрите за ним!
Певерелл взял племянника на руки и понес мимо судебного пристава – прочь из зала. Дамарис вышла следом. Вновь стало очень тихо.
Рэтбоун повернулся к судье:
– Таковы мои доводы, милорд.
Чувство времени было утрачено. Никто уже не мог сказать, который час, утро сейчас или вечер. Никто не думал подниматься со своего места.
– Конечно, не до€лжно посягать на жизнь ближнего своего, – сказал Оливер в заключительной речи. – Даже если этот ближний несправедлив или жесток. Но что еще оставалось делать этой бедной женщине? Она видела, что зло повторяет самое себя – сначала в ее свекре, затем – в муже, а потом оно коснулось и ее сына. Она не могла смириться с этим. Законы, общество, то есть мы сами, не предоставили ей иного выбора: или позволить этому продолжаться – из поколения в поколение, – или самой свершить правосудие.