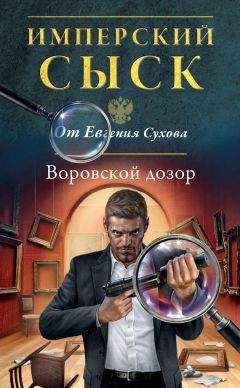– Слушаю, – прозвучал равнодушный голос.
– Феликс, – стараясь придать голосу оптимистические нотки, произнес коллекционер, – это тебя Потап Викторович беспокоит.
– Знаешь, Потап, не узнал, – припустил в голос сочувствия старый приятель. – Хочется сказать, богатым будешь, да не тот случай… Это правда?
Феоктистов чуть не крякнул. Казалось, весь мир уже знает о его злоключениях.
– Правда все, до последнего слова. – Стараясь предупредить дальнейшие расспросы, он продолжил: – Феликс, ты ведь, как никто, знаком с моей коллекцией…
– Да, конечно, – несколько смущенно отозвался Феликс, – не однажды приезжал к тебе, и ты мне показывал каждую новинку, да и фотографии присылал.
– Сделай для меня вот что, посмотри у своих английских приятелей-коллекционеров, может, увидишь что-нибудь похожее. Может, где-то на выставках или на аукционах что-то объявится.
– На выставках и на аукционах посмотрю, – прозвучало после короткой паузы, – а с коллекционерами – сложный вопрос. Сам знаешь, это ведь другой мир, они все недоверчивые, подозрительные, к ним на хромой кобыле не подъедешь. Причину нужно подобрать. К тому же это не Россия, а Англия, здесь просто так в гости не ходят.
– Ты не переживай, – энергично отозвался Феоктистов, – меня хоть и ограбили, но я еще не бедный. Компенсирую все твои траты.
– Попробую помочь, но я бы посоветовал тебе самому приехать в Лондон, это будет правильнее. Если где и объявится твоя коллекция, так именно здесь.
– Билет куплю на ближайшие дни.
– Я тебя встречу.
– Не надо… Доберусь сам, – подумав, произнес Феоктистов.
– Буду рад нашей встрече.
Глава 7
Двадцать пять лет назад, или Вор Елисеич
‑За что взяли, малец? – присел Елисеич на шконку, впившись в Потапа тяжеловатым немигающим взглядом.
Сняв рубашку, он аккуратно сложил ее и положил себе на колени. Все, что он делал, выглядело очень выверенным, красивым, движения у него были правильные, неторопливые, какие можно наблюдать только у факира, гипнотизирующего покачиванием флейты смертоносную кобру. И сам он своим гибким, тощим, потемневшим от старости телом напоминал диковинное пресмыкающееся. А его многочисленные наколки чем-то походили на узор, какой обычно бывает на капюшоне у змеи. От его правильной, спокойной речи веяло нешуточной опасностью.
Вместе с тем в нем присутствовала какая-то врожденная интеллигентность, разительно отличавшая его от остальных узников. Даже громила Никанор, шумный, громкоголосый, с длинными волосатыми ручищами, как у орангутанга, в его присутствии отчего-то невероятно робел, будто гимназист перед строгим учителем, делался незаметным и невыразительным.
Голос у Елисеича мягкий, с плавными интонациями, но подобный плазме, что расплавит любого, вставшего на пути. А потому каждый закоренелый сиделец предпочитал держаться от него подальше, с трудом представляя, какая чернота может прятаться в его узкой костлявой груди.
– Ни за что… Спутали меня с кем-то, – опустил глаза Потап.
– А здесь всех спутали, – усмехнулся новый знакомый. – Здесь преступников нет. Так что там случилось, малой?
– На базаре меня взяли, кошелек в кармане чужой нашли. Одна тетка на меня указала. Обыскали и кошелек нашли.
– А ты, стало быть, ни сном ни духом?
– Говорю же, не моя работа, – чуть повысил голос Потап.
– Покажи руки, – попросил старик.
Потап выставил вперед широкие ладони с короткими толстыми пальцами.
– Да-а, верно, такими ладонями только навоз разгребать, – согласился Елисеич. – Видно, скинул тебе кто-то «лопатник», а сам в тину ушел. Крайним тебя сделали. А теперь посмотри на мои ладони.
Потап Феоктистов невольно сглотнул. Все пальцы собеседника были изуродованы, на местах переломов оставались грубоватые утолщения костных мозолей. Но даже через это уродство просматривалось их былое природное изящество.
– Видел, какие пальцы? Были… – поучительно произнес старик. – Такими работничками только по рояли бацать! Какие чудеса я ими вытворял, пока мне их менты каблуками не переломали. Думал, что без моей рабочей профессии с голоду сдохну. Но ничего, выжил… Даже кое-что скопил на черный день. Ладно, дело прошлое… – махнул он рукой. – Где-то я им даже благодарен, что так все завершилось. Сейчас где-нибудь в толпе отирался бы да «терпил» с тугими карманами пощипывал. А с твоими «работничками» только «медведя» ломать. Вижу, что карманное ремесло – это не твое. А не помнишь, кто там рядом с тобой отирался?
– Где же их упомнишь? – искренне посетовал Потап.
– Наука тебе будет в следующий раз, башкой будешь крутить, как надо. И карманы свои проверять.
– Так что мне делать-то?
– Если еще раз к следаку потянут, отпирайся от всего, – уверенно посоветовал Елисеич. – Говори, что ничего не видел, ничего не знаешь. «Лопатник» подкинули. Может, и выкрутишься, а я со своей стороны тоже кое-кого умаслю. Может, дня через два и откинешься… Слушай, а ты случайно не детдомовский? – неожиданно поинтересовался он.
– Да, – ответил Потап.
– Значит, из наших… Детдом куда хуже тюрьмы, сам через него прошел. Хату на Курской ты подломил?
– Я, – признался Феоктистов.
– Хорошо сработал. Чисто… Далеко пойдешь.
– Откуда вы про хату знаете?
– Неважно, я много о чем знаю. У меня к тебе будет просьба… Да ты не напрягайся, – усмехнулся Елисеич.
– Что за просьба?
– К человеку одному нужно будет наведаться, сделаешь?
– Хорошо.
– Вот и славно, – с некоторым облегчением отозвался вор. – Поедешь на Николаевскую, три, назовешь свое имя. Тебя там встретят. Все понял?
– Да.
Согласившись, Феоктистов совершенно не подозревал, что крохотная просьба перекроит всю его жизнь.
Елисеич не обманул, в тот же день он отправил по «дороге» маляву. Прошитая неоднократно вдоль и поперек суровыми толстыми нитками, она выпорхнула из зарешеченного окна «хаты» свободным голубем и направилась вдоль кирпичной кладки в свой путь, избежав случайного прочтения, пока не отыскала предназначенного адресата. А еще через два дня двери камеры распахнулись, и надзиратель, с бледно-голубыми глазами и бесцветным голосом, распорядился:
– Феоктистов, на выход… С вещами.
Дальше и вовсе последовали протокольные формальности, в которых, как и было оговорено, Потап открещивался от всего. И если бы у него в тот момент спросили бы: «Родился ли он на свет?» – даже эту истину он поставил бы под сомнение.
– Распишись, – наконец произнес начальник оперативной части, майор лет сорока пяти.
Потап аккуратно вывел в конце листка угловатую закорючку.
Майор, будто бы довольный сложившимся раскладом, аккуратно сложил листки в стопку и произнес:
– Все, теперь вы свободны!
В скорое освобождение отчего-то не верилось. Наверняка какая-нибудь иезуитская шутка: вот сейчас опер раздвинет губы в бестолковой улыбке и расхохочется над его глуповатой физиономией. Но лицо «кума» оставалось невозмутимым, как у древнеегипетского сфинкса. Даже бровь не дрогнула.
– Дежурный! – голосистыми раскатами сокрушил майор тесную комнату. И когда в помещение вошел краснощекий молодой сержант, весело распорядился: – Проводи его! Пусть вытряхивается.
Потопали в обратную дорогу по узким ярко освещенным коридорам, за которыми по обе стороны находились металлические двери, выкрашенные в черный цвет, откуда глуховато прорывались чьи-то возбужденные голоса, а из камеры, что размещалась поближе к выходу, нервно зазвучал мужской смех. Так радоваться может только сумасшедший. Скорее всего, так оно и было в действительности.
Последняя преграда – дверь, сваренная из профилей и толстых листов металла, – была преодолена, задребезжала позади оброненной жестью, и Феоктистов оказался на воле. Постоял секунду, соображая, в какую сторону двигаться далее, а потом пошел прямо на липовый аромат, нещадно защекотавший ноздри. Оказывается, воля имеет массу запахов, о которых прежде он даже не подозревал.
Уже садясь в автобус, в прелой одежде, пропахнувшей тюрьмой, Потап запоздало подумал о том, что больше никогда не возьмет чужого кошелька.
По названному адресу он отправился на следующий день. Позвонил в дверь, и на вопрос: «Кто там?» – назвал свое имя. Дверь приоткрылась. Хозяином квартиры оказался представительный мужчина в белой рубашке и красной бабочке на тощей шее с остро выпиравшим кадыком, выглядевший весьма нелепо на фоне обшарпанных обоев.
– Проходи, – распахнув дверь пошире, отступил он немного в сторону. Когда Потап протиснулся между косяком и его полным телом, сказал: – Сделаешь вот что… – Подняв с пола небольшую картину в добротной золоченой раме, легко уместившуюся в небольшой холщовой сумке, продолжил: – Сходишь сейчас на Пушкаревскую, восемнадцать, и передашь это хозяину.