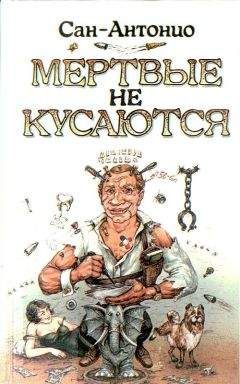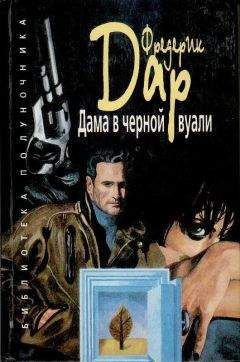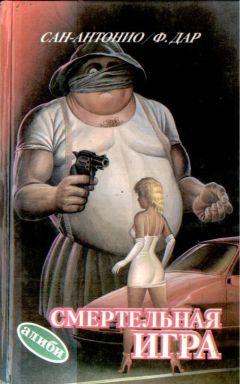Район зажиточный. Тачки на стоянках — сияющие «феррари» и «мерседесы», жирные, как немцы. Короче, я ползу по аристократической части острова. Впрочем, гольф — это говорит само за себя. В рабочих пригородах Парижа вы гольфа не найдете. Впрочем, как и в подобных пригородах других городов.
Делаю восьмерки, пересекая район в одном направлении, потом в противоположном, затем кручусь, верчусь и, наконец, полностью теряюсь. В противоположность Тирьям-Пампамам семейство Нино-Кламар не сообщает табличкой о своем местопребывании. Тогда я решительно удаляюсь в сторону моря и вкатываюсь в деревушку, на въезде в которую устроено чудесное кладбище автомобилей. Деревушка эта — одна улочка с церковью в центре и ангаром на краю, служащим киношкой по воскресеньям.
Сегодня воскресенье.
Афиша, преимущественно в желтых тонах, сообщает, что утром и вечером будет показана экстраординарная человеческая драма, самая трогательная история любви всех времен с несравненным психологическим напрягом. Называется (я переведу вам): «Наточи нож, Педро, и защищайся, час возмездия пробил».
Кусок жизни.
Клюква чистой воды. Остается только раздавить на зубе и сплюнуть шелуху!
Но клюква испанская, разумеется!
Останавливаю свою плюх-плюх около церкви. Песнопения первой мессы райски разносятся под солнцем. Деревня пахнет куриным пометом и плохо очищенными сточными трубами. Какой-то старик сидит на пороге церкви на таком же трясущемся стуле, как и он сам. У него густая и достаточно короткая борода, чтобы создать вид «плохо выбритых» складок кожи на шее. Старый ротозей, желтеющий под муаровым слоем влажности. Два остатка коренных зубов, между которыми течет струйка коричневой навозной жижи.
В довершение всего — озабоченный и отстраненный вид слабоумного, впавшего в детство, как у всех таких в любом уголке мира.
Приближаюсь к нему. Он смотрит на меня с опаской, будто размышляя, не собираюсь ли я вышибить из-под него стул или его последние зубы. Церемонное приветствие не очень успокаивает его.
— Скажите, уважаемый господин, вы знаете семейство Нино-Кламар? — осведомляюсь я.
Дебит струи навозной жижи усиливается. Он качает головой, и я получаю сталактит на рыло, ибо кретин качает головой отрицательно. Прибить бы это ископаемое. Он явно зажился и цедит забвение мелкими глотками через соломинку.
К счастью чья-то рожа возникает из глубины темного нутра входа, сторожем которого по замыслу является старикашка. Рожа бородатой дамы. По крайней мере, у нее такое заросшее лицо, что она могла бы бриться супермодным «жиллеттом».
Улыбаюсь ей своей секретной улыбкой, предназначенной исключительно для Европы и заморских территорий.
— Мадам или мадемуазель? — воркую я.
— Мадемуазель!
Она польщена моей вежливостью, смущена моим обращением,[11] Людоедка, пускай хоть наживка и тухлая. Что меня умиляет в дамочках, старушках, многоягнятных отвратительных и прочих: они сохраняют в себе ощущение женского начала. Это трогает. Настолько, что я нахожу их соблазнительными.
В своем роде.
— Извините за беспокойство, сеньорита, вы не знаете, где обитает Нино-Кламар?
Она не говорит да. Она это делает. К моим ногам падает гребень. Я поднимаю его. Он гораздо более липкий, чем наполовину обсосанная карамелька.
— Спасибо, — говорит она по-испански, потому что на других языках она не разговаривает. — Да, я знаю, где живет мадам Нино-Кламар.
Я дергаюсь. Почему она сказала только о «мадам Нино-Кламар»?
— Могу я узнать, сеньорита, где находится их дом?
Она краснеет, как будто я спросил, какого цвета ее лифчик, если вдруг, смеху ради, она надела бы его.
— В «Бордельеро для простушек».
Видел я это местечко, крутясь по району в моем «фольке». Наверху. На самом краю плато над морем. Белая асиенда под римской черепицей с коричневыми ставнями. Зеленый бассейн. Редкие деревья и несколько гектаров банановых плантаций. Недурственно.
— А господин Нино-Кламар?
— Его уже нет. Умер пять лет назад.
Она крестится, потому что неграмотная (и не злая).
— Мадам Нино-Кламар живет одна?
— С дочерью. И с мужем дочери, который приходится ей зятем.
— Она всегда живет здесь?
— Нет, только приезжает на отдых. А живет в Мадриде и Найворке.
— Где, вы говорите?
— В Мадриде и Найворке.
— Это в Испании, Найворк?
Она смеется, сильно тряся головой.
Собираю с земли три ее гребня, исполняю долг вежливости, возвращая их ей, и вспоминаю, что видел фонтан, где смогу вымыть руки.
— Нет, Найворк, это в Америке.
Луч света!
Да что уж: гениально! Я всегда слишком скромно сужу о себе.
— Вы хотели сказать Нью-Йорк?
— Именно это я и говорю!
— Извините, у меня, наверное, пчелки залезли в ушные соты, ибо я не усек сразу. И она добрая, мадам Нино-Кламар?
— Да, — она продолжает смеяться.
Это хороший признак. Шанс не нарваться на застегнутую на все пуговицы эспанскую вдову.
— Похоже, что она достаточно богата?
— Очень, очень, очень много! Ее муж сделал состояние на «Дульче де платано».
— Пардон, сеньорита? На чем, вы говорите?
— «Дульче де платано».
Я балдею. Перевожу себе: дульче — приятный, платано — банан. Видя мое непонимание, коровятина берет из своего походного буфета на скамейке круглую коробку и протягивает мне. Действительно, читаю на крышке «Дульче де платано». Сняв ее, нахожу внутри остатки фруктовой массы характерного запаха. Что-то вроде бананового джема. Помнится, я видел подобные коробки в гостинице.
— Чтобы есть с сыром, — объясняет восхитительная девушка.
Черт возьми, и на этом можно сделать состояние!
Нино-Кламар преуспел, судя по его поместью. А затем, как все остальные, откинул копыта на матрасе, набитом тугриками. Вследствие долгой болезни, согласно стандартной формулировке! Как будто умирают «вследствие» болезни, а не в «конце ее»! Люди такие кретины, когда хотят быть стыдливыми.
— Она сейчас в «Бордельеро для простушек», вдова?
— Она приехала позавчера.
Молчание. Снаружи старый болван начинает давиться соплями, что мешает ему зажамкивать грязные очистки, служащие источником жвачки. Доисторическое чудовище, которое я называю сеньоритой, устремляется к нему. Пользуюсь этим, чтобы попрощаться и смыться.
Сучья керосинка, соревнуясь с дебилом, кашляет сильнее, чем подавившийся пердун, прежде чем соглашается на горючее, которое я ей предлагаю.
Следуя, наконец, своему призванию, начинает двигаться.
С апокалиптическим рычанием она везет меня к мадам вдове Нино-Кламар, королеве размолотых бананов, у которой в среду вечером самый дорогой наемный убийца послевоенного времени должен выполнить… контракт!
Когда время наступает вам на пятки, это даже в какой-то мере преимущество, ибо вы вынуждены применять средства, которые по размышлении были бы вами отвергнуты.[12] Одно лимонное дерево… Пардон, о чем это я? Хотел сказать: находясь к этому моменту на холме, который нависает над асиендой вдовы Нино-Кламар, я созерцаю обширное поместье и говорю себе, что готов на все, чтобы туда проникнуть. Неважно каким путем. Засчитывается только результат. Знакомая песня! Цель оправдывает средство и пр… Не бойтесь возвращения в пенаты детства, зайчики мои! Народные поговорки, как стоптанные чоботы, не очень блестящи на вид, но успокаивают. Держите наготове на губах какую-либо сентенцию, и вы никогда никого не ущемите.
Рядом с дорогой находится теннисный корт. Играет пара. Он высокий загорелый, смуглый и красивый малый; она очаровательная платиновая блондинка, тоже загорелая и с ногами, которые я рекомендовал бы вам для постельных вечеринок. На ней юбчонка, которую задирает ветерок, открывая, таким образом, задок, обеспечивший бы вам изумительный отпуск, если бы даже непрерывно шли проливные дожди. Время от времени парочка оказывается у сетки, подбирая мячи, и обмениваясь жадными чмоканиями.
Думаю, что речь идет о дочери и зяте мадам Нино-Кламар. Наверное, молодожены.
Я не принимаю решения, о, нет: оно меня принимает. Оно овладевает мной раньше, чем я даже думаю о нем. В таких случаях надо все пустить на самотек. За тебя работает твое нутро. Доверься ему, приятель! Повинуйся ему! Оно выведет тебя на дорогу успеха, потому что у него нюх.
Вынимаю мой швейцарский нож на сорок восемь предметов и освобождаю малое садовое лезвие. Настоящий маленький друид! Закуриваю сигарету для большего эффекта! И напеваю «Друид» Шуберта. С ножом на соседнем сиденье преодолеваю подъем на средней скорости.
«Фольк» погромыхивает, как колье негритянки, и дает выхлоп сильнее, чем осел на манеже.
Сантонио напряжен в ожидании. Глаз, как у прорицателя. Спуск снят с предохранителя.