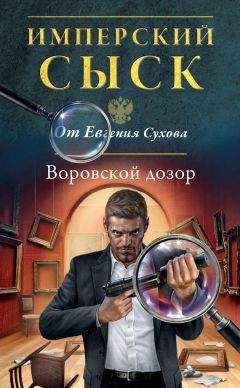Весьма символично!
Повесив картину на прежнее место, полковник поднял трубку и бодро произнес:
– Валерий Тимофеевич!
– Он самый, с кем имею честь общаться? – прозвучал сухой ответ.
– Это Кочетков тебя беспокоит.
– А-а, Константин Степанович, – отозвался радушный басок. – Чем могу быть полезен?
– В твоем ведомстве Владимиров?
– Это Елисеич, что ли? Вор в законе?
– Он самый.
– Не переживай, сидит, как миленький. Или ты его прессануть хочешь? По полной? Можем попробовать.
– Как раз наоборот… Мы тут разобрались с этим делом. У меня к нему претензий не имеется. Его надо выпускать.
– Это за хорошее поведение, что ли? – хмыкнул Валерий Тимофеевич. – Так он поведением не блещет. Мне тут передали перехваченную «маляву», он народ к бунту подбивает.
– А что такое?
– Я одного оборванца в карцер посадил, так он посчитал, что это по беспределу! Того и гляди, мне все СИЗО разморозят, проучить я его хотел.
– В общем так, Валерий Тимофеевич. Отпускай его на все четыре стороны! И не прессуй! А бумаги я тебе подготовлю в ближайший час. Да и тебе поспокойнее будет, на одну головную боль станет меньше.
– Значит, дело до суда не будешь доводить?
– Не буду. Не тот случай.
– Добро. Договорились.
Тяжело забилась на петлицах толстая металлическая дверь и, отворившись со скрипом, впустила в затемненное помещение камеры яркий поток света. Надзиратель, кряжистый большеголовый мужчина с круто выступающим из-под тугого кителя животом, осмотрев сидельцев, рядком расположившихся на нарах и в тревожном ожидании посматривающих на вошедшего, грубовато известил:
– Владимиров! На выход.
– С вещами, что ли? – хмыкнул Елисеич.
– С вещами.
– На волю тебя, Елисеич, отпускают, – ощерился золотыми зубами сидевший рядом заключенный.
Странное дело, вроде бы и пробыл в камере недолго, но за минувшие несколько дней успел обзавестись некоторым собственным арестантским добром, без которого трудновато тянуть тюремный быт. И первое, что он приобрел, так это доставшуюся от прежнего сидельца большую иголку с суровыми нитками, способную поправить самую ветхую одежду; подладить прохудившиеся башмаки. Затем была булавка, которую он зацепил за обратную сторону воротника. Последними были пуловер и мельхиоровая ложка…
Отправляясь на волю, каждый арестант, следуя неписаным тюремным традициям, уходящим своими истоками куда-то в седую старину, раздавал нажитое добро до самой последней мелочи, чтобы вновь не угодить в «казенный дом». Такая традиция была заведена мужиками, пришедшими в тюрьму от сохи, терпеливо дожидавшимися дня, когда можно будет вернуться к привычному образу жизни, а потому без сожаления расстававшимися не только с вещами, но и с тюремными привычками.
Вор Елисеич был иной породы, для которых тюрьма – дом родной! Поэтому приметы мужиков, прочно укоренившиеся в уголовной среде, он не одобрял. И возвращения на «кичу» не боялся. Но вот раздать добро, чтобы послужило хорошим людям, так это благое дело. Не спеша, как бы продумывая каждое движение, он передал кружку золотозубому:
– Владей!
– Спасибо, Елисеич. Вроде бы и недолго пробыл, а привык я к тебе.
– Мы же с тобой бродяги, – заметил Елисеич. – Нам не привыкать расставаться.
Заточку, сделанную из поломанной ложки, – царский подарок, – он незаметно пододвинул двадцатипятилетнему блатному с «погонялом» Кузя. Куртку отдал Краюхе, заключенному с тридцатилетним стажем.
– Не замерзай. Наверняка по этапу на север отправят.
Надзиратель, оперевшись о косяк, терпеливо наблюдал за раздачей, не смея торопить «законного». Раздав вещи, иголку с ниткой Елисеич решил оставить себе – если суждено вернуться, будет чем подправить одежду.
– Чего, начальник, стоим? – повернулся он к надзирателю. – Веди давай. На волю хочу!
Заложив руки за спину, вор вышел в коридор и, не дожидаясь привычной команды, уткнулся лицом в стену.
Первые три дня Елисеич с приятелями пил горькую. Закуска самая простая: килька в томате, грубо нарезанные куски колбасы, из разносолов лишь маринованные грузди и крохотные соленые огурчики. Хлебом заедали пьяную икоту, отламывали крохотные кусочки и степенно жевали, будто это было самое желаемое лакомство в их жизни.
– А помнишь, как мы с тобой в Соликамске парились? – спросил Елисеича худой вор, которого нарекли Коромыслом. Тощий, почерневший от полярного солнца, он и в самом деле чем-то напоминал побитый и иссушенный кусок дерева, но столь крепкий, о который может затупиться даже сталь.
– Было такое, – ответил Елисеич и с подчеркнутой деликатностью, каковой не встретишь даже у потомственных дворян, поддел вилкой из консервной банки узкую кильку. – Как вспомню, так меня просто в жар бросает. Ума не приложу, как удалось выжить в этой «красной» зоне.
– А помнишь Степанова?
– Это которого? Фомку, что ли?
– Нет, Петра, мы с ним в Томске чалились. С заячьей губой, он за мужиками посматривал.
– Помню такого.
– Сукой оказался! В Соликамске скурвился совсем, из блатных в «красные» переметнулся. Потом его в бригадиры двинули. Такой мразью стал, что из мужиков по две нормы выжимал. Бревнами его завалили.
– Оно и правильно. На зоне мужик – главная фигура, он ведь за всех лямку тянет.
– А Вальку Сидорова помнишь?
– А то! Золотой пацан! Он с малолетки пришел. Что с ним?
– Правильный пацан растет. Помогают ему. Есть за что. Бог ему навстречу! В прошлом году «смотрящим» поставили в Пермской колонии.
– Она же наполовину «красная», – удивился Елисеич.
– То-то и оно! Там он быстро свои порядки установил, даже барин к нему со всем почтением. До него все повара крысятничали, мясо из котлов таскали, так он одного из них сварил в кипятке, и другие сразу паиньками стали. Каждую пайку лично контролирует, чтобы ни на один грамм мяса не убавили.
– У меня есть тоже на примете один пацан. Уверен, толк из него будет. Хочу в свои дела притянуть.
– Проверить его надо, – с сомнением протянул Коромысло. – На такое дело не каждый способен. Тут, кроме характера, еще и голова должна исправно варить.
– А вот мы сейчас и проверим, – с готовностью отозвался Елисеич. Подняв трубку телефона, он быстро набрал номер: – Герасим, «чиграш» у тебя?
– Здесь. Что ему передать?
– Ничего не передавай. Скажи, чтобы ко мне подваливал. Дело у меня к нему есть срочное.
– Передам.
Трубка с громким щелчком легла на рычаг.
– Еще по одной? – предложил Елисеич, ухватив за прохладные бока «Столичную».
– Можно, – вяло отреагировал Коромысло. – Только давай по маленькой. Мне еще до дома топать. Маруська не любит, когда на рогах прихожу.
– Она у тебя покладистая, – аккуратно разлил водку в граненые стаканы Елисеич, – еще и не такое простит.
Выпили молча. Без речей. Как если бы кого-то помянули. Так же сосредоточенно взялись за еду, думая каждый о своем.
– Считаешь, потянет? – нарушил молчание Коромысло.
– Потянет, парень он с головой, сразу приметил.
– Разберемся.
Еще через полчаса подошел Потап.
– Звал? – спросил он, глянув на захмелевшего хозяина, стоявшего на пороге.
– Проходи, не дрейфь, – распахнул дверь пошире Елисеич.
Феоктистов прошел в коридор – неуютный, холодный, каким бывает разве что казенное помещение. В квартире почти пусто. Из украшений лишь одна картина, написанная тусклыми красками, с которой на него смотрел худой старик с цепким взглядом. Вот сейчас разомкнет крепко стиснутые губы и обругает по матушке гостя. Потап невольно застыл под строгим взглядом. Даже ему, человеку, не искушенному в искусстве, было понятно, что лицезреет он исключительную вещь, по воле случая оказавшуюся в запущенной квартире с потертыми обоями и разодранным линолеумом. Может, оттого во взгляде старика сквозила какая-то скрытая обида.
– Чего остолбенел? – недовольно спросил Елисеич.
– Кто это? – показал Потап на картину.
– Рембрандт. Слыхал о таком?
– Доводилось.
В просторной гостиной, щедро залитой светом через большие окна, было такое же запустение. Из роскоши лишь старенький продавленный диван с протертой материей, на котором, откинувшись на мягкую спинку, сидел немолодой высокий человек с пожелтевшим лицом и пронзительными колючими глазами, очень напоминающий старика с портрета.
– Это тот самый? – с интересом спросил он, посмотрев на вошедшего Потапа.
– Тот… Вот что, малец, – хмуро посмотрел Елисеич на Потапа, – знаешь, чем я занимаюсь?
– Наслышан, – сдержанно ответил Потап.
И перевел взгляд на картину, висевшую у входа, на которой была изображена молодая красивая женщина в старинных нарядах. Давно уже не было в живых художника, нарисовавшего портрет, в прах обратилась сама натурщица, нетленной оставалась лишь ее красота, которой можно наслаждаться даже через сотни лет. Дело не только в грамотном подборе красок и в редком таланте художника, просто ее лицо не походило ни на одно из виденных ранее, оно обладало какой-то магией притяжения. Чувство, возникавшее при взгляде на эту картину, можно сравнить разве что с трансом. Вне всякого сомнения, это был настоящий шедевр. Любой музей посчитал бы за честь владеть им. Оставалось только гадать, по каким тропам шла картина, чтобы оказаться в неприбранной и пустой комнате в обществе двух подвыпивших мужичков, весьма далеких от художников эпохи Возрождения.