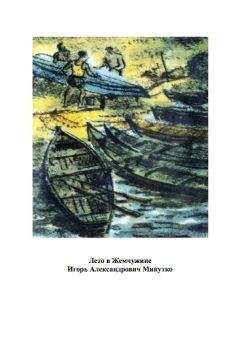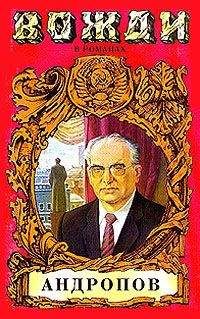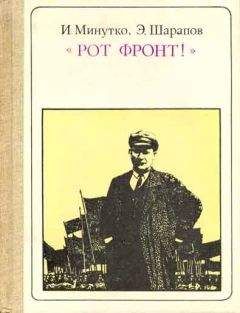Потом, сами знаете, война началася. Юденич на Петроград прет. Мотало нас повсюду. Гришка здорово дрался. Отчаянный был — страсть! Молодость, конечно. Что нам тогда было? По девятнадцати годков. Пуль, глупые, не боялись, само собой. Еще, правда, спешил он очень домой. Все говорил: «Скорей бы контру раздавить». И вот интересно! Везде таскал с собой Гришка Декрет о земле. Листовочку такую маленькую. В кармане у него, можно сказать, под сердцем. Как привал какой, тишина — он вынет, читает, губами шлепает. И улыбается.
Год прошел, второй. Гражданская война по России гудёт. Мы все в Петрограде. Проверенные революционные части. На охране сердца революции. Это наш комиссар так говорил. Везде вроде война поутихла. Двадцать первый год настал. По домам скоро, думаем. Гришка совсем извелся. Худой, щеки ввалились, по ночам не спит, все ворочается, вздыхает. И как раз, уж к весне дело, март, — Кронштадтский мятеж. Нас — туда, само собой. Комиссар перед строем речь: «Контра, товарищи, делает последнюю ставку — свергнуть Советское правительство в Петрограде. Хотят вернуть проклятые враги заводы капиталистам, землю — помещикам, хотят красную Россию залить рабоче-крестьянской кровью. Это последняя попытка злобного врага. Иссякают его силы. Это наш последний, решительный бой...» Гришка меня в бок толкает: «Слышь, последний!» — и дергается весь от нетерпения.
Как развернулось? На штурм пошли. Бежим с матросиками по льду Финского залива, а он раскачивается. Тонкий. По нам из фортов пулеметы садят. Ладно. Самые события уже в городе. К ночи мы туда ворвались. Заняли одну улицу, другую. И вот, помню, в дом заскочили, в подъезды. А напротив из окон такая стрельба — спасу нет. Из винтовок. И один пулемет. Бьет без удержу. Столпились мы, не знаем, что делать. Гришка, я, еще товарищи. Командира нашего убило. «Высунь нос, — говорит кто-то в темноте, — сразу душа в рай». А Гришка мне шепчет: «Слышь, письмо получил. Мать отписала. Братья не вернулись. Одна маманя на земле мается. Своя землица, а не пошшупать. Эх... — Так он тяжко вздохнул. — К севу бы в деревню поспеть». «Поспеешь», — говорю ему, а сам думаю: «Как дальше-то быть? Вон контрики из пулемета шпарят — не продыхнуть».
И как раз в подъезд к нам матрос заскочил, бушлат на ём, маузер в руке громадный. «Братки, — говорит. — Штаб ихний там. Списки. Нельзя выпускать. Через черный ход утекут. Кто пойдет, а? Братки?» Решился я: «Пойду», — говорю. За мной другие. «Я! Я!» И Гришка вызвался. «Тогда — давай! — распахнул матрос дверь. — Ура-а!» И побежал к дому напротив. Мы за ним: «Ура-а!» И вот любопытно — страху никакого. Даже пулемета вроде не слышу. Только падают рядом товарищи наши. И винтовки по мостовой гремят, из рук катятся. Добежали до дома трое: матрос, Гришка и я. Из других подъездов побоялись. Дом угловой. Арка высокая во двор ведет. «Пулемет у них на втором этаже, — шепнет матрос, — третий подъезд. Видно, и штаб там. Пошли через черный ход». Пробежали под аркой, потом по двору. Не двор, а гроб узкий. Отсчитали третий подъезд. По лестнице карабкаемся. Темень — глаз выколи. «Вот он, второй этаж», — говорит матрос. А дверь заперта. Навалились.
Дале, поверите, помню как-то смутно, ровно из тумана выплывает. И все кусками, кусками встает перед глазами, а промеж них — темно.
Вот дверь хрястнула. Нас прямо внесло. Коридор вроде длинный. И в конце — слабая лампочка. Ровно светляк. Потом тень мелькнула. Выстрелы. Чувствую: жаром в плечо меня — толк. Что-то еще было. Не знаю...
Только Гришка меня уже в какую-то дверь заталкивает. Взял за пояс и задом — в дверь. И вот когда она, дверь, закрывалась, увидел я: крадется по коридору матрос, как-то в коленях изогнулся. Смотрю, с боков на него — тени. Дверь как раз Гришка закрыл. Дышит мне в самое ухо. А за дверью — возня. «Врешь! Врешь!» — хрипло так. Это матрос наш. Эх, видно, парень был... У меня сердце под глоткой трепещет, само собой. Чего там! Страшно было. Подумал: «Пропали». Смолкло там. И вдруг голос, звонкий, совсем, считайте, мальчишеский: «Я! Дайте я!» Тихо. Ну, просто жутко тихо. Потом — выстрел! Второй... И тяжелое на пол опрокинулось. Убили матроса. А я в черноту провалился.
Очнулся — топот по коридору. И голоса: «Сколько их было?» «Один, ручаюсь». «Нет, двое». Бас такой хриплый: «Только без паники, господа. Верейский! (Очень даже я запомнил эту фамилию. На всю жизнь.) Возьмите двоих. Охраняйте черный ход». «Есть!» — тот же голос мальчишеский. И вроде радость в ём. А бас одобрительно: «Вы молодцом, Верейский!»
Опять меня куда-то в черноту понесло. Как поплыл. И показалось мне: музыку слышу. Веселую такую. Ну, плясовой мотив. Не то «барыня», не то «яблочко». Потом — звон в ушах. Шевельнулся — в левом плече жжет, сил нет. Из темноты голос Гришки: «Жив?» Я: «Жив. В плечо угодило». И вдруг совсем рядом, за стеной, начинает бить пулемет ихний. Аж захлебывается. Гришка шепчет: «Чего делать, Пантелей?» Я ему: «Обнаружат они нас, кончат». «Идтить надо?» — спрашивает. «Надо», — говорю. «Эх! — Это он с отчаянием: — Все один конец. Не мы их, так они нас». И к двери. Я ему: «Осторожно, Гриша». Помолчал он и так томительно: «Пантелей...» «Ну?» — спрашиваю. «Ежели чего... Ты мамане помоги землю вспахать. На пару дней к нам приезжай». «Помогу», — говорю, а всего меня трясет, само собой. Гришка помолчал и опять: «Еще... слышь? Сарай у нас с северу завалился. Пособи. Ежели чего со мной... Ладно?» «Ладно, Гриша...» Это я ему. А сам себе думаю: «На неминучую смерть идет».
Тихо он вышел с винтовкой наизготовку. Дверь прикрыл. Шаги. Потом — ни звуку. И слышу: в соседнюю дверь стучит. Закрыта она, что ли, изнутри была? Чудно! Пулемет, можно сказать, надрывается. А я его стук слышу. И в ответ бас этот: «Кто?» «Я», — тихо так Гришка. «Вы, Верейский?» Он сызнову: «Я!» Побойчее. Тоже ведь голос-то был, считайте, мальчишеский. По двадцать третьему нам пошло. Дверь щелкнула. Выстрел! Грохот, возня. И ничем я ему помочь не могу. Пулемет замолчал. И враз за окном: «Ура-а-а!» Наши... И опять потащило меня в темень.
Пришел в себя — тихо. Свеча горит. А рядом Гришка на стуле, кровь по лицу размазал. Весь такой праздничный. «Взяли, — говорит, — штаб. А я троих положил. Одному в живот пулю вогнал. В упор. Так и закрутился. Другого прикладом грохнул, ну, а с третьим мы за грудки». Здесь Гришку затрясло, рвать начало. Стравил и говорит: «Задавил я его. Аж язык вылез...» И отвернулся к стенке.
Ранило меня несильно. Только чуть кость задело. С неделю руку на привязи потаскал, и все. Затянулось, само собой.
Так Гришка проявил геройство. А потом, дней пятнадцать прошло... Помню, утречко такое яркое, солнышко. И морозец легкий. Выстроили наш отряд на набережной. За спиной Нева мелкой льдинкой трется. Оркестр сбоку, солнце на трубах играет. Командиры стоят кучкой, человек пять, в кожанках, торжественные. И наш, новый, заместо убитого, Федоров, команду подает: «Отряд! Смирно!» Вытянулись мы. Вышел из командиров седой такой, в плечах могутный: «Григорий Морковин! Три шага вперед!» Гришка — три шага. Лихо так, круто. И говорит седой зычно, кругом слыхать: «За проявленное геройство, за мужество и отвагу красноармейцу Григорию Морковину выносится благодарность от командования!» Мы: «Ура-а!» А командир дальше: «И подарок примите, товарищ Морковин, от меня лично. Вы какой номер сапог носите?» «Не знаю», — Григорий робко так. «Ничего, подойдут. — Командиру сверток передали. Развернул он его, а там сапоги хромовые, блестят все. — Примите, боец Морковин, — говорит. — Носите на здоровье». Гришка как гаркнет: «Служу пролетарской революции!» Командир немного смутился, да здесь оркестр подоспел — грянул во всю мощь «Интернационал»: «Вставай, проклятьем заклейменный!..» Мы подхватили: «Весь мир голодных и рабов...» Гришка в строй вернулся, шепчет мне: «В деревню в сапогах заявлюсь». А хромовые сапоги по тем временам, знаете...
...Фитиль давно чадил в лампе, а мы и не заметили. Чуть посветлели окошки. Разочарование наполняло меня. Но я не хотел сдаваться.
— Пантелей Федорович, а вы не помните, в то время у Морковина револьвера не было? — спросил я.
— Как же, был! — И Пантелей Федорович вскочил с лавки. — Погодите... Того парня — из револьвера?
— Да... — У меня вдруг прервался голос.
— Был у него револьвер. В том доме и взял. У убитого офицера. Как же я пропустил! Все мне показывал. «На память», — говорит. Старый такой наган, с барабаном. И на ручке, очень даже хорошо помню, гравировка, две буквы, такие кудрявенькие. Вроде «Г. П.» или «И. П.». Что вторая «П», точно помню. Именной был. Неужели Гришка... Представить не могу.
— Завтра, Пантелей Федорович, — сказал я, — придется вам приехать в Воронку. Для очной ставки. Часа в два. Машину пришлем.
— Понятно, — сказал Пантелей Федорович. — Раз надо...
— А домой вы вернулись вместе с Морковиным? — спросил я.
— Нет. В том же двадцать первом и разбежались наши дорожки. Он — домой. А я... В пески угодил. Борьба с басмачами. По своему желанию, само собой. Предложили — я поехал. Как вам объяснить? Полная перемена тогда во всей моей жизни произошла. С хорошими людьми сдружился, с большевиками. До этого так жил, своими думками. Разве сам разберешься! Перевернулась, считайте, вся Россия вверх дном. Как свою дорожку найти? И вот посчастливилось: к настоящим людям притулился. Прочистили мне мозги, растолковали, что к чему. Книжки давали. Ленина, Свердлова. Тогда и в партию вступил. Домой вернулся в двадцать четвертом. С пулей басмаческой под лопаткой. И сейчас там катается. И вот с тех пор дома, на родной земле, само собой. Только что в войну отлучался. Колхоз строили, с кулаками пришлось... Всего было. После войны... Трудно мужику иной раз партийным быть... А я, считайте, секретарь партийный в Архангельских выселках, в «Богатыре», еще с довоенных годов. Ну как, скажите, яблоньку каждую налогом обкладывать? Или кукурузу у нас сеять чуть не на полпосевной площади? Когда не родит она и почву истощает... Обкладывали, сеяли... Зажмешь сердце в кулак и идешь линию проводить. Все было: и сады рубили и коров полуживых на вожжах из навоза поднимали... и баб да детишек силком на работу, и за шестеренку разнесчастную по вагону пшеницы отваливали... Знал я, нутром чуял: все беды переможем. Верили, что придут новые времена. Так, Иван Матвев, верили?