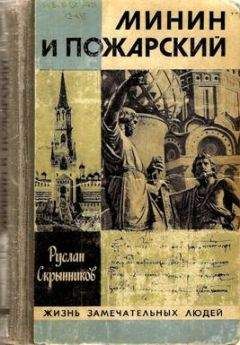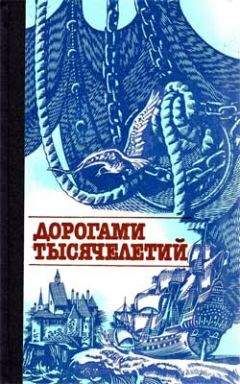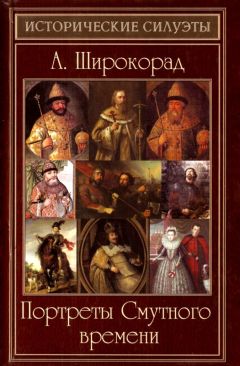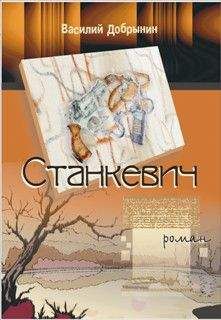Держава бросала Сергеича и миллионы других, на «подножный корм». Беднел, опускался, терял себя тот, кто Державе верил. А верить привыкли.
По этой причине и сон назывался «Хер-сон!» Работники ОПХ перешли на подножный корм, растащили технику, шифер, резину, металл и стекла, — все, что можно было бы сделать бартером в элементарных и мелочных сделках — на жизнь. Но и зарплату просить уже не приходили: зачем ноги бить понапрасну?
«Хер-сон!» потому еще становился плохим и насущным делом, что директору нужно было кормить семью. Тут он был на пределе, не знал, как и все, — что делать? Но, теперь: «Все находится в нас!» — тут разве, Цой не прав?
Крушение общества и экономики, от которых веяло страхом; которые переживал он серьезно: за ОПХ, за себя и людей, за семью — того страха не стоили. Сергеич сошелся с Виталиком, и забывал, что не мог прокормить семью недавно. Уже мог поменять машину. И думал о том, чтобы сахар, полученный в счет аренды, под видом зарплаты давать народу. Не деньги, но им, отвезти через поле, — куда и Виталик, продать — будут деньги…
«Все находится в нас!» Не верил бы в это, уставший как все, в меру честный, Сергеич, — пройдоха Виталик принес свою правду. И убедил! «Да за него нам молиться надо!» — думал, имеющий совесть, Сергеич
Беднеет и опускается тот, кто Державе верит. Сергеич ей больше не верит. Виталик пришел и отменил эту веру. Дай бог...
***
В казенном заведении, где суетились служивые люди, шурша документами и разновалютной денежной массой, Лахновского не забывали. Он, почему-то забыл. Менее гордым в таких обстоятельствах, будет, как правило, первый, — который не забывает. Так в жизни выходит...
— Але. Это Альфред Петрович? А Вы узнаете?
— Конечно. Что Вам, дорогой?
— Да, может, Вам чем-то помочь?
— А Вам?
— Нет, спасибо. Мы рядом, случайно... Попутно... Увидимся, может?
— Случайно... Попутно... — Альфред улыбнулся, — Да я разве против?.
— Ну, я через пять минут...
— Ох, что-то Вы забываете нас, Альф…
— Волнуетесь? Это приятно, мой друг, приятно!
— Ну, а мы-то, — всегда Вам готовы помочь.
— А я — то, бог мой, сомневаюсь разве? — Альфред покачал головой. И спросил, — Это все?
— Ну-у… — гость помялся, — если я Вам не нужен, тогда, пока, все.
И он бы ушел. Но Альфред, вспомнив что-то, потеребил воздух пальцами:
— А? — дружелюбно спросил он, — Скажите-ка, друг мой, Вы ставки за свой документ не меняли?
— Вообще-то, меняли. Да только для Вас, — гость легонько прищурил взгляд, — ставки останутся те же.
— Спасибо, — ответил Альфред.
Гость, конечно, был в курсе, что сорок тонн потерял Лахновский, при том, что была лицензия. Но к гостю, к ведомству, к документу ведомства, претензий быть не могло. Так случилось: несчастный случай...
— Все трудности временны..... — посочувствовал гость.
— Временны, — согласился Альфред. И мягко добавил, — С богом!
— Ломаке привет? — уходя, спросил гость.
— Привет...
Гость не понял, вернется ли в строй постоянных клиентов Лахновский? Он стоит того глаз лишний раз помозолить, прийти на поклон — таков он, чиновничий бизнес. Ведь он же подводный, всплыть ему — чиновничей смерти подобно А справедливости — знал это гость, — не бывает в вопросах с такими, как этот Лахновский. Слова «Благодарность» и «Скупость» — не совместимы ни в жизни, ни даже в фольклоре. В жизни богатые очень скупы. Богатые неблагодарны...
«Не льстивый чиновник, — смотрел ему в след Лахновский, — церковная мышка, бедняк! С карманом нельстивых не дружат взятки».
Знал бы Виталик, какая стабильная дружба нарушена им! Но о таких, как Виталик, Альфред рассуждал не много, и даже без слов. Он знал цену людям.
.
***
Податливый, жаркий бочок кумы, предвкушал на сегодня, на вечер Евсеич — банщик. Степан Иваныч и Альфред Петрович, парились сегодня. Птицы не из большинства, — что птицами бывают до тех пор, пока не сильно пьяны. А после — те же, и не лучше тех, кто пьет в подсобке, дома, на чужих поминках. Свинюки, проще говоря, которые, что не съедят, — не мелочатся — прут с собой, назад. Разве что оставят безобразие, которое Евсеич и ко рту не поднесет. Питье — к нему не пристает зараза, он, конечно посливает для себя…
А эти — говорят не так, как те, кто показушно делает себя. Они — как те, кто делает погоду. И без матов. Но главное: не съели — с богом, аккуратно, тихо, оставляют на столе. «Кума, — их проводив, по телефону звякнет банщик, — слышишь, приходи. Прибраться мне поможешь…» Она поймет. Придет. И на двоих, великолепно выйдет у него с кумой.
— Ты, я так слышал, Альфред, отказался от Ломаки?
— Да. Не в обиду, — это бизнес.
— Обидится. А все лицензии — не забывай, — под ним.
— Он что, злопамятный?
На меня, ты понимаешь, не высказывал обид...
Тонко заметил Степан Иванович, умно, что смертны в сравнении с ним, и Альфред, да и сам Ломака. Но, обстоятельства дела склоняли к дружбе: Лучше было держаться под тенью этого человека, чем за ее пределами. Не заметил Лахновский тонкости, сунул обиду в глухую щель в глубине души.
По-дружески махнули по «Смирнову», попарились, поплавали в бассейне. «Смирнов» шел мягко, хорошо, в контрасте с холодом и жаром. И вот, когда приходит, как вечерний звон, усталость… Такая же, малиновая, благостная, истома, в конце нормально прожитого дня, невольно хочется сказать спасибо. И день грядущий, будет для того полнее, кто это сказал, кто верно ценит день минувший.
— Я о Ломаке, Альфред. Кажется, не ценишь этой полосы, которую зовут граница. Все, пожалуй, так — не ценим… А коснется всех. И судеб переломит, не одну охапку!
— Полоса! — а Вы мне говорите о Ломаке...
— Ценить, Альфред, надо человека! Что без него, любая полоса?
— Она, — смиренно сказал Альфред, — остается. Человек при ней — сменяем.
Альфред был, конечно, прав, но он дерзил, и надо было этой дерзости не замечать:
— Альфред, — Степан Иванович взял рюмку, — давай-ка друг, за сахар выпьем, а? Продукт уж больно добрый!
— Давайте! И за полосу, которую зовут граница, и которую, на самом деле, я ценю!
Евсеич, будь он помоложе, усмехнулся бы маразму зрелых; властью и деньгами избалованных мужей. Нормальный так бы не сказал. Так можно за стиральный порошок и плюс шоссейную дорогу тосты делать. Но Евсеич не моложе, — старше тех, и близостью к ним дорожит Он видит, что нормальных в стране много, а богатых, нет. Сахар — триста лет, как сахар. Да не он, а контрабанда делает богатство. А без границы — контрабанды нет.
— Ну... — закусив, миролюбиво проворчал Степан Иванович, — Ценить не разучился, — далеко пойдешь!
«Боже, как ты устарел!» — подумал про него Альфред.
— Чего лицом сошел, Альфред? — спросил Степан Иванович.
Альфред поднял глаза:
— О будущем подумал... — вздохнул он.
— И что же? — удивился босс, — Тебе там ничего не светит?
«С подобными тебе, — подумал Альфред, — светит мало...».
Степан Иваныч подождал, и голосом на грани, которая шутливость переводит в недовольство, произнес:
— Да-а... Есть такие, — что ни дай — а им все мало! Давалке, знаешь, хорошо когда...
— Сейчас, — поправился Лахновский, — хорошо. Граница, — как же не ценить, — там деньги рубят! Дай бог, все там сейчас рубят. Но, если все — то это шара. А шара не бывает бесконечной. Ведь не за счет ума, или так скажем, совершенства нового закона, рубят. А как раз, — за счет несовершенства! В силу временного бардака. Ломака, как чиновник, рубит на таких как я — не шара разве: рисовать лицензии, без риска, за процент? А прочие — простые спекулянты. Пятьсот процентов дает сахар! Вот и я, пока есть шара, — тоже порублю, со всеми. Глупо было б не рубить. Но, шара кончится, — вот боль моя, Степан Иванович! Вот боль... Ломака на зарплату сядет, ну а я? Зарплаты нет и некуда податься. Да и не хочу так, на зарплату. Не привык...
— Вот уж, — рассмеялся, выслушав, Степан Иваныч, — Ломака на зарплату сядет: представляешь?! После шары! — он а потом спросил:
— А ты?
— Я — в корпус перейду! — Альфред улыбнулся.
— Корпус? — тряхнул, не понимая, головой Степан Иваныч.
— Ну, да. Далекая, конечно, перспектива, но я же бизнесмен, я перспективу вижу. Уйду, когда настанет время — в депутатский корпус.
— Потом? — задумался Степан Иванович, — Иди сейчас.
— Рано, — возразил Альфред, — настолько рано, что я бы промолчал, но раскололи Вы меня, и я сказал. А во-вторых...
— Да ты, Альфред, еще во-первых не сказал.
— Во-первых, — корпуса, пока что нет. А во-вторых — я, думая о перспективе, предпочитаю заниматься тем, что есть. Я реалист. Вот — денег нарублю, пока созреет корпус. С идеями в комбеды шли, а в депутатский корпус с деньгами идут. Пусть не бедняк я, — Альфред улыбнулся, — но таких денег еще нет.