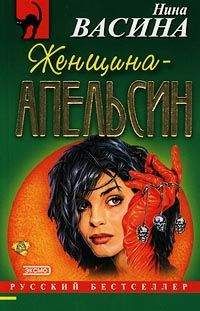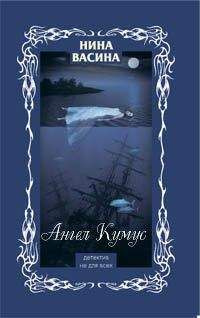– Ты отказался от бухгалтерской работы почти сразу. Ты уже в восемьдесят пятом поменял отдел и вообще ничего не знаешь!
– Так я же только версию! Версия моя такая: ты нужен Хамиду, а Хамид нужен тебе. А адвокат Дэвид Капа регулирует эти ваши отношения приказами на уровне международных советов.
– С чего ты взял?! – взвился Корневич.
– Потому что они меня послали. Они просили тебе кое-что передать.
– Плевал я на их просьбы, – опустил голову Корневич, – уже ничего не изменить. А будут рот открывать, нечаянно умрут.
– Что касается адвоката, так он уже давно одной ногой в могиле: возраст, болезни. Исхудал до стадии засушенной саранчи. А вот Хамид-Паша, по его словам, держит тебя в напряжении запрятанным на случай своей смерти компроматом. И как только он мне про этот компромат сказал, я сразу сложил кусочки картины. Почему американцы не смогли определить фальшивки в восемьдесят четвертом? Потому что бумага, из которой были сделаны фальшивки, была правильной! А почему она была правильной, подумал я? Не завозили же они нам, как в Анголу, пароходом свою бумагу! Не завозили. А бумага у них делается из определенного сорта хлопка, такой, знаешь, американский хлопок, выращенный в определенном месте. И вот два американца, молодые ученые, которые в медицинских целях покупали для Красного Креста хлопок, выращенный в определенном месте в Таджикистане, вдруг на уровне молекулярных исследований обнаружили, что этот хлопок ну совсем такой же, как тот, который у них используется для изготовления денег! Что им осталось сделать? При помощи местных заинтересованных лиц тщательно отслеживать посевы и сборы урожая, хранение, перевозку, подготовку почвы, еще открыть маленький цех и привезти в страну хорошие клише. Эти золотые клише со спины Веры Царевой были не первыми, за два года до восемьдесят четвертого долларов нашлепали столько, что Хамиду-Паше хватило на его дворец в Турции и на самых дорогих девочек. И тут такая неожиданность: кто-то вывез целый список номеров и серий долларов, никогда в Америке не изготовлявшихся. Все могло рухнуть в одночасье, скандал! Но в дело вступаешь ты, бухгалтер-организатор. А Капа, спасая свою шкуру, проявляет здоровую еврейскую смекалку и предлагает американцам закрыть глаза. Что плохого, в конце концов, во всеобщей долларизации такой приятной по размерам страны за «железным занавесом», тем более что наша промышленность, не считая военной, ни к черту. Я разгадал почти все. Я только не знаю, как выйдут они из положения с таким количеством фальшивок, выпущенных уже под надежным руководством главного в стране советника-бухгалтера Корневича де Валуа, потому что тогда ведь – тогда – в восьмидесятых, никто не предполагал, что эти деньги валом – по десять-двадцать миллиардов в год – пошелестят из России в зарубежные банки! Но мне, – перевел дух Хрустов, откинувшись на спинку кресла, – некогда заниматься такой ерундой.
– Ты и так слишком много знаешь для человека, который ушел из этого дела почти сразу.
– Я умный.
– Ладно, скажи, что тебе надо. Мне пора.
– Мне нужна женщина, – сказал Хрустов, с удовольствием заметив, как дрогнула рюмка в руке Корневича. – За нее мне и заплатят. Я же все тебе объяснил: Капа стар и болен, а Хамид-Паша пророчит мне место гражданина мира, ты же знаешь, их всего семь, этих граждан мира, они должны быть категорически одиноки, мужского пола, без привязанностей, но с соображением.
– Тебя? – севшим голосом спросил Корневич.
– Я тоже удивился. Ну какой из меня гражданин мира? Я для мира ничего важного не сделал. Не то что ты. Развалил фальшивыми долларами Советский Союз, отделил Россию, лишил Запад великой угрозы.
– При чем здесь женщина?
– А при чем здесь мир? Владение миром подразумевает вечность. Понимаешь, Валуа, вечность. Я им сразу сказал, что ты один пока имеешь право на эту вечность, ты ей уже присягал. Но они не хотят попробовать такой ценой. Не хотят экспериментировать. Не хотят умереть, а потом посмотреть, придет ли воскрешение. Знаешь, что я тебе скажу, – Хрустов нашел своими зрачками неподвижные зрачки Корневича и был в этот момент искренен и волнующе важен, – в этом деле обязательно должна быть женщина. Я запомнил это на всю жизнь. К женщине должен прийти «охраняющий ее и мешающий ей печалиться!..».
– «…и пусть она не сможет его ни любить, ни убить. Пусть он возьмет себе ее дыхание и поможет прятаться», – продолжил Корневич, вдруг повлажнев глазами. – Я тоже это запомнил на всю жизнь, ну и что это значит?
– «И пусть он будет самым смелым и самым красивым, и пусть живет вечно или до тех пор, пока не появится тот, кто ее найдет».
– Это я – самый смелый и самый красивый?! Брось, Хрустов, вот уж не думал, что ты веришь в эту ерунду.
– Я не верю, а они там, в покое и довольстве, верят всему. Ты сам виноват. Хамид мне сказал, что это ты ему по пьянке выложил эту историю. Еще он мне сказал, что тут же нечаянно тебя убил, чтобы проверить.
– Вот сволочь недорезанная, я думал, что это был взрыв террористов! Скажи, какой актер! Ведь когда я открыл глаза, он сидел надо мной и причитал, как по любимому родственнику! Он лил слезы и рвал волосы на голове!
– Восток, – заметил на это Хрустов. – А может, и испугался. Он ведь был по твоей милости неприкосновенным. Как главный владелец хлопковых плантаций и перерабатывающих фабрик. Ты не стал его тогда сажать как пособника фальшивомонетчиков, ты предложил ему должность. И все ему сходило с рук. А ну как вдруг по глупости лишиться такого покровителя!
– Что они будут делать с женщиной? – развел руками Корневич. – Ее надо держать в лаборатории и изучать! Мы отслеживаем каждый ее вздох, каждую минуту, она лежит в датчиках на всем теле, но обнаружить, куда девается ее вес, как и в какой момент она уменьшается, не можем!
– Не ожидал от тебя подобной тупости, – сказал Хрустов, подавив вдруг полыхнувшее в нем желание задушить Корневича. – Лежит в датчиках, да? И что, ты хочешь поймать момент, когда она станет просто оплодотворенной яйцеклеткой?!
– А ты хочешь стать тем, «кто ее найдет»?! Не глупи. Мне встречались разные аномалии, но беременные мужики не попадались. Сколько они тебе обещали за женщину?
– Много.
– Предлагаю такой вариант. Поскольку ее состояние ни к черту, держим на успокоительных: или орет, или плачет, я уже сам думал изменить режим содержания, так что ты попался кстати. Я предлагаю сделку.
– Я согласен на любые условия.
– Ты будешь находиться рядом с этой женщиной и в том месте, в каком захочешь. Но здесь, у нас в России. Иногда надо будет сдать анализы, зато места и условия проживания она и ты можете выбрать самые романтические. Устрой себе, Хрустов, в конце концов, медовый месяц сразу с женщиной, девушкой, подростком и потом ребенком – опустись до педофила, если тебе это необходимо. Ты заслужил, ты тогда ее очень хотел. Я не просто так предлагаю. Она тебя требовала. Она с тобой пойдет. Она тебя тогда тоже очень хотела. Можешь пригласить в это заветное место и адвоката, и турецкого сутенера, валяй, я только рад буду, мне для эксперимента чем больше народу, тем лучше. Но взамен ты уговоришь Еву Курганову отдать мне Сусанну Ли.
Хрустову показалось, что он проглотил язык и тот стал колом в гортани, мешая дышать.
– Почему Курганову? – спросил, когда сумел сглотнуть напряжение в горле.
– А эта сучка Ли каким-то образом пришла к самому высокоподготовленному агенту Службы и попросила убежища. Удивлен? Я знаю про тебя и про Курганову. Я знаю, что ты и подружку Евы Николаевны – психолога не пропустил, но это просто эротическое предположение. Слушай, скажи честно, – наклонился Корневич через столик с бутылками и орешками в хрустальной вазочке, – а американку? Сделал ты ее? Ну хоть раз, а?
– Эта Сусанна… – Хрустов махнул рукой в воздухе, – она тоже уменьшается?
– Нисколько. Она, наоборот, растет себе и всем портит жизнь.
– Я могу поговорить с Кургановой, и только! А она может послать меня подальше.
– Принято, – вдруг неожиданно для Хрустова обрадовался Корневич. – Я знаю, что вы уже давно не в сцепке. Поговори. Условий не ставлю. Объясни, что Вера – важней, а у доченьки мы только возьмем пару раз анализы, и все. Я на тебя надеюсь. Помогу, чем могу. – Корневич встал. – Подъезжай к медицинскому центру Службы, помнишь, где это? Как только поговоришь с Кургановой, так и подъезжай. Выдам тебе Веру Цареву под расписку. Только пойми правильно. Можешь предупредить Еву Николаевну, можешь нет – на твое усмотрение, но без пленки с этим разговором я женщину не отдам.
Хрустов вышел под серое мартовское небо и, не веря в то, что у него получилось – он играл совсем втемную, неожиданно для себя пробормотал, растирая руки мокрым снегом: «Вот так, и пусть тебя оттрахают в задницу все зубцы твоего Кремля, бухгалтер!»