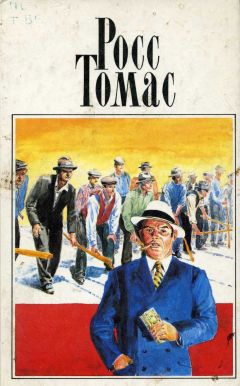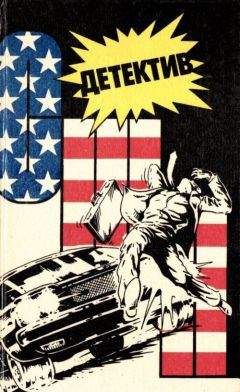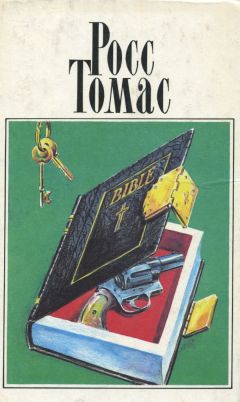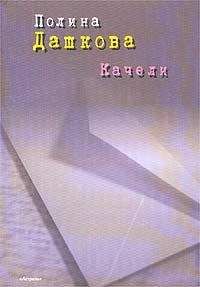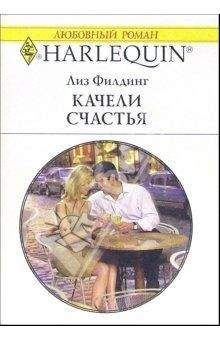— Он много говорил о тебе. Не просто о тебе, о твоем участии в кампании по выборам президента профсоюза в шестьдесят четвертом году.
— И что он сказал?
— Я слушала, Харви, но ничего не записывала. Наверное, напрасно, потому что недавно Салли спрашивала меня о том же.
— Когда именно?
Она задумалась.
— Не больше месяца назад. После исчезновения Арча.
— Что же ее интересовало?
— Видишь ли, мне хотелось говорить о том, какой он отвратительный, мерзкий сукин сын, но Салли искусно меняла тему, и оказывалось, что я пересказываю ей наши с Арчем разговоры. Салли далеко не дура, и я думала, что этим она хочет мне помочь, — Одри посмотрела, на меня и печально улыбнулась. — Она выкачивала из меня информацию для этого Квейна, так?
Я кивнул.
— Я не виню ее. Квейн умел манипулировать людьми. Это его профессия. Одна из нескольких.
Одри взглянула в окно на играющих в саду детей.
— Интересно, сказала ли я ей то, что хотел знать твой приятель Квейн?
— Я думаю, ты сказала ему именно то, что он хотел знать.
— С чего ты так решил?
— Макс позвонил мне вчера. Он, как ты говоришь, нервничал, что совсем не похоже на Макса Квейна. Он сказал, что должен встретиться со мной. Я спросил зачем, и он ответил. Повод оказался серьезным. Он узнал, что случилось с Арчем Миксом.
Одри встала, подошла к буфету, достала жестяную банку с надписью «Перец», вынула из нее сигарету. По кухне поплыл сладковатый запах марихуаны.
— Черт. То есть Квейна убили из-за того, что я сказала Салли?
— Квейн сам виноват в своей смерти. Если он действительно узнал, что случилось с Миксом, то попытался поживиться на этом и связался не с тем, с кем следовало.
— Что же я ей сказала?
— Может, Салли чем-то интересовалась с особой настойчивостью?
Одри еще раз затянулась, пододвинула ко мне банку с сигаретами, в которых не было табака. Я покачал головой.
— Салли очень умна. Она не стала бы спрашивать в лоб.
— Но что-то ее интересовало.
Одри задумалась.
— Постель.
— Ее интересовало, что вы делали в постели?
— Не совсем. Но однажды я сказала, что после… ну, ты понимаешь, он любил лежать и рассуждать вслух. Он расслаблялся и чувствовал себя так уверенно, что мог говорить о чем вздумается.
— И о чем он говорил?
— Об этом и спрашивала Салли, и продолжала спрашивать, хотя тогда я не обращала на это внимания.
— Но она хотела узнать что-то определенное.
— Да, теперь я понимаю. Особенно ее волновало, о чем говорил Арч перед тем, как мы расстались. Она возвращалась к этому снова и снова, как бы в поисках истинного мотива нашего разрыва. Поэтому я сказала все, что смогла вспомнить.
— А затем ей потребовалось что-то совсем конкретное.
— Откуда ты знаешь?
— На месте Квейна я поступил бы точно так же.
— Какое ты дерьмо.
— Перестань, Одри. Так что ты ей сказала?
— Она постоянно переводила разговор на две последние ночи, когда Арч говорил о тебе и профсоюзе. Он не ругал тебя. Просто он узнал что-то, побудившее его вспомнить о тебе и твоей роли в предвыборной кампании шестьдесят четвертого года.
— Что же он узнал?
— Я сказала тебе, что не вела записей. И потом, я уже засыпала.
— Повтори мне то, что ты сказала Салли.
— Я сказала ей, что Арч сказал мне, что они собираются использовать профсоюз точно так же, как использовали его в шестьдесят четвертом году, но теперь, слава богу, есть он и он этого не позволит. Или что-то в этом роде.
Я наклонился вперед.
— Когда ты сказала ей об этом?
— Несколько дней назад. Может, неделю, как бы между прочим. В обычном разговоре. Так мне тогда казалось. В этом есть какой-нибудь смысл?
— Будь уверена, для Макса Квейна эти сведения означали очень многое.
— А для тебя?
Я подумал о Максе, лежащем на зеленом ковре с перерезанным горлом.
— Надеюсь, что нет.
Я воспользовался телефоном Одри и позвонил сенатору Вильяму Корсингу. Сенатор был на совещании, но просил передать, что хотел бы встретиться со мной в десять утра, если мне это удобно. Если нет, он готов увидеть меня в одиннадцать.
Голос молодой женщины, с которой я говорил, обволакивал, как мягкая ириска, а когда я сказал, что приеду в десять, ее благодарность не знала границ, и я положил трубку в полной уверенности, что теперь с моей помощью республика все-таки будет спасена.
Потом я позвонил Мурфину, и вместо приветствия он сказал:
— Макс не оставил страховки.
— Жаль, — ответил я.
Мурфин вздохнул.
— Я и Марджери провели с ней почти всю ночь. Она все время повторяла, что покончит жизнь самоубийством. Ты же знаешь Дороти.
Я действительно знал Дороти. Двенадцать лет назад мы с Дороти встречались короткое, исключительно печальное время, за давностью сжавшееся до одного долгого дождливого воскресенья. Потом я познакомил ее с Максом Квейном, и тот увел от меня Дороти. За что я очень благодарен Максу. Макс никогда не говорил, рад ли он тому, что я познакомил его с Дороти, а мне как-то не пришлось спросить его об этом.
— Так чем я могу помочь?
— Ты бы мог нести гроб, — ответил Мурфин. — Я никого не могу найти. Человеку тридцать семь лет, и я не могу найти шестерых мужчин, которые понесут его гроб.
— Я не хожу на похороны.
— Ты не ходишь на похороны, — эхом отозвался Мурфин таким тоном, будто я сказал, что не ложусь по ночам в постель, а сплю, повиснув на стропилах.
— Я не хожу на похороны, поминки, свадьбы, крестины, церковные базары, политические митинги и рождественские вечеринки в учреждениях. Я сожалею о том, что Макс умер, потому что он мне нравился. Я даже готов заехать к Дороти и предложить ей и детям пожить немного на ферме. Но гроб я не понесу.
— Вчера вечером, — вздохнул Мурфин, — они сообщили о Максе в шестичасовом выпуске новостей. Мы с Марджери приехали к ней в половине седьмого, возможно, в семь, а она уже билась в истерике. Ну, ты понимаешь, мы решили остаться на пару часов, максимум на три-четыре, а потом, думали мы, придут соседи и возьмут все на себя. Не пришел никто.
— Никто?
— Кроме полицейских. Не было даже телефонных звонков, если не считать газетчиков. Такое трудно представить, не правда ли?
— Действительно, трудно, — тут же согласился я. — У Макса было много знакомых.
— Знаешь, что я тебе скажу? — продолжал Мурфин. — Я думаю, кроме меня у Макса не было друзей. Возможно, и кроме тебя, но в этом я не уверен, так как ты не хочешь нести гроб.
Я повторил, что заеду к Дороти, и спросил:
— А что сказал Валло?
— Ну, он, похоже, решил, что Макс специально устроил так, чтобы его убили. Он сказал, что сожалеет и все такое, но как бы походя. В основном его интересовало, кем мы заменим Макса. Я обещал подумать над этим, и он попросил связаться с тобой и узнать, нет ли у тебя каких-нибудь предложений.
— Нет, — ответил я.
— Ты сам и скажи ему об этом. Он хочет встретиться с тобой сегодня.
— Когда?
— После двенадцати.
— В какое время?
— Половина третьего тебя устроит?
Я на мгновение задумался.
— Я приеду в два, и мы подумаем, как помочь Дороти.
— Да, возможно, ты придумаешь, как объяснить Дороти, откуда у Макса взялась эта подруга.
— Кто?
— Согласно данным полиции, очень милая негритянка.
— Они сказали Дороти?
— Пока еще нет.
— Полиции известно, кто она?
— Она снимала квартиру на имя Мэри Джонсон, но в полиции полагают, что имя не настоящее. Платила сто тридцать долларов в месяц, включая коммунальные услуги. — Мурфин, как всегда, не мог обойтись без подробностей.
— И что думают в полиции?
— Они думают, что у нее был поклонник, а возможно, и муж, который выследил ее и Макса и набросился на него с ножом. Перерезал ему горло. Ты представляешь, что это такое?
— К сожалению, — ответил я.
— Я ездил в морг и опознал его, потому что Дороти к тому времени уже тринадцать или четырнадцать раз сказала, что наложит на себя руки. Знаешь, что я тебе скажу?
— Что?
— Макс выглядел совсем неплохо. Для человека, которому перерезали горло.
Я сказал Мурфину, что приеду к нему в два часа, набрал номер Ловкача и пригласил его на ленч. Когда я объяснил, где и когда я намерен перекусить, у него вырвалось:
— Ты, конечно, шутишь?
— Теперь это семейное дело, дядя, — возразил я, — и мне не хотелось бы говорить там, где нас могут услышать.
— Ну, тогда мы сможем выпить немного вина.
— Если ты привезешь его с собой, — ответил я и положил трубку.
После Ловкача я позвонил адвокату. Его звали Эрл Инч, я знал его много лет. Он брал приличные деньги, но честно отрабатывал каждый цент, а я чувствовал, что мне необходим хороший адвокат. Когда я сказал, что у меня неприятности, он ответил: «Отлично», — и мы договорились встретиться в половине четвертого. Денек выдался почище вчерашнего.