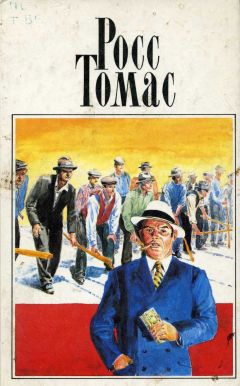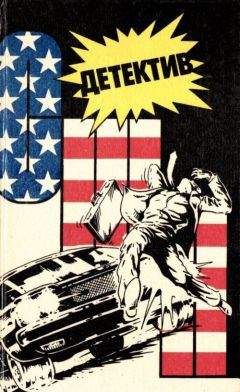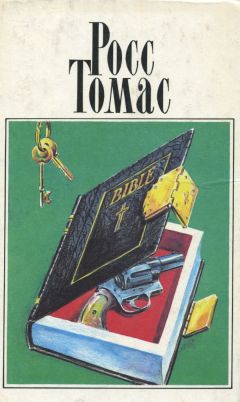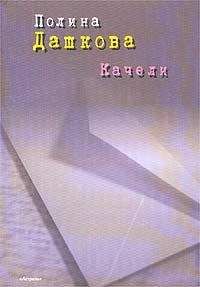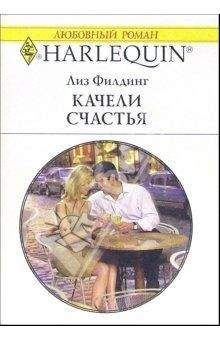— И какие у тебя неприятности? — спросила Одри, когда я положил трубку.
— Достаточно серьезные, чтобы прибегнуть к услугам адвоката. И Ловкача. Он может замолвить за меня словечко там, где это нужно.
— Тебе нужны деньги?
— Нет, но все равно спасибо.
— Салли, — сказала она. — Тебе придется сообщить полиции о Салли, не так ли?
— Да.
— Ей это чем-нибудь грозит?
— По-моему, нет.
— Скорее бы она пришла домой.
— Она придет, как только оправится от этого потрясения.
— Харви.
— Да?
— Если я могу чем-то помочь… ты только скажи.
— От тебя требуется только одно.
— Что?
— Приехать в субботу на ферму.
Канцелярия сенатора Вильяма Корсинга находилась в Дирксен Сенат Офис Билдинг. Как и другие служебные помещения Конгресса, канцелярия сенатора, казалось, страдала от тесноты. Столы сотрудников теснили друг друга, погребенные под кипами документов, коробками с конвертами, фирменными бланками и невообразимым количеством старых выпусков «Конгрешенл Рекорд».
Но сотрудники показались мне веселыми, деловитыми, уверенными в важности выполняемой ими работы. Возможно, так оно и было. Мне пришлось подождать несколько минут, прежде чем молодая женщина провела меня в кабинет сенатора. Я почему-то думал, что это будет взбалмошная блондинка, но она оказалась высокой стройной брюнеткой лет тридцати, с умными, даже мудрыми глазами и сухой улыбкой, дающей понять, что она знает, как звучит ее голос, но ничего не может с этим поделать, и к тому же, чего уж притворяться, голос этот иногда оказывается очень полезен.
В отличие от своих сотрудников сенатор не мог пожаловаться на тесноту. Государство предоставило ему просторный, залитый светом кабинет с кожаными креслами и широким письменным столом. На стенах висели фотографии сенатора в компании с людьми, знакомством с которыми он мог гордиться. Большинство из них были богаты, знамениты, облечены властью. Решительный вид остальных указывал на то, что они преисполнены желания подравняться с теми, кто вырвался вперед.
На других фотографиях я увидел берега Миссисипи, обувную фабрику, сельские просторы, знаменитый мост через великую реку в Сент-Луисе. В дополнение к фотографиям кабинет украшал большой, написанный маслом портрет сенатора. Серьезное выражение лица придавало ему озабоченный вид, подобающий государственному деятелю.
Тридцатилетний Вильям Корсинг был одним из самых молодых мэров Сент-Луиса, когда я впервые встретился с ним в 1966 году. Он очень хотел стать самым молодым сенатором от штата Миссури, но никто не принимал его всерьез. Практически никто, если сказать точнее. Поэтому он и обратился ко мне. Окончательные подсчеты показали, что он победил с преимуществом в 126 голосов. В 1972 году его соперника поддерживал сам Никсон, но Корсинг набрал на пятьдесят тысяч голосов больше. В сорок два года он все еще считался молодым сенатором, но его уже не принимали за мальчика.
Он располнел, но не настолько, чтобы не вскочить из-за стола при моем появлении. Волосы все так же падали ему на лоб, и он по-прежнему отбрасывал их резким движением руки. Из темно-русых они стали седыми, но улыбка не потеряла своего очарования, хотя, возможно, появлялась на лице уже машинально.
Я увидел новые морщины, естественное следствие прошедших лет. Широко посаженные серые глаза все так же светились умом, и я почувствовал, как они прошлись по мне с головы до ног, чтобы понять, как отразились на моей внешности эти годы. Я с достоинством разгладил усы.
— Мне они нравятся, — сказал сенатор. — С ними ты похож на Дэвида Найвена, разумеется, молодого.
— Рут они тоже нравятся.
— Как она?
— Все такая же.
— Такая очаровательная, да?
— Совершенно верно.
— Тебе повезло.
— Я знаю.
— Садись, Харви, садись, — улыбнулся сенатор, — где тебе удобнее, а я попрошу Дженни принести нам кофе.
Я сел в одно из кожаных кресел, а он, вместо того чтобы обойти стол и сесть на свое место, опустился в соседнее. Подобная любезность била без промаха, и он прекрасно знал об этом, а я не возражал.
Дженни, та самая высокая брюнетка с мудрыми глазами, судя по всему, общалась с сенатором телепатически, потому что не успели мы сесть, как она внесла поднос с двумя чашечками кофе.
— Вам одну ложечку сахара, не так ли, мистер Лонгмайр? — спросила она, одарив меня сухой улыбкой.
Я взглянул на Корсинга.
— Ты сам учил меня этому, — ухмыльнулся тот. — Всегда помни, что они пьют и чем сдабривают кофе.
— Как я понимаю, вы были с сенатором во время первой предвыборной кампании, — сказала Дженни, подавая мне кофе.
— Да.
— Представляю, какой она была захватывающей.
— И столь же сладостной оказалась победа, — улыбнулся я в ответ.
— А в этом году вы ведете чью-нибудь предвыборную кампанию?
— Нет, — ответил я. — Больше я этим не занимаюсь.
— Как жаль, — она вновь улыбнулась и вышла из кабинета.
Я посмотрел на Корсинга, тот кивнул, вздохнул без особой печали и сказал:
— Это она. Уже четыре года. Умна, как черт.
— Я это заметил.
— Ты говорил с ней по телефону?
— Да.
— Каково впечатление?
— Думаю, я выполнил бы любое ее желание.
Мы помолчали.
— Аннетт ничуть не лучше, — прервал молчание Корсинг. — Даже наоборот, врачи считают, что ее состояние несколько ухудшилось.
— Это печально.
Аннетт, жене сенатора, выставили диагноз паранойяльная шизофрения, но без особой уверенности, так как за последние пять или шесть лет она не произнесла ни слова. Аннетт спокойно сидела в отдельном номере в частном санатории неподалеку от Джоплина. Возможно, ей предстояло просидеть там до конца своих дней.
— Я не могу развестись, — добавил Корсинг.
— Я понимаю.
— Моя сумасшедшая жена в сумасшедшем доме, и никого это не беспокоит. Даже приносит пару дюжин голосов. Но я не имею права развестись и вести нормальную жизнь, потому что такой поступок равносилен предательству, а сенаторы не предают своих сумасшедших жен. Пока не предают.
— Подожди пять лет.
— Я не хочу ждать пять лет.
— Да, наверное, нет, — согласился я.
— Ладно, а что случилось с тобой? — сенатор изменил тему разговора.
— Я живу на ферме.
— Харви.
— Да?
— Я был на твоей ферме. Мы нализались до чертиков на твоей ферме. Твоя ферма — очень милое местечко, но там одни холмы да овраги и выращенного тобой зерна не хватит даже для оплаты счета за электричество.
— В прошлом году наши доходы составили без малого двенадцать тысяч долларов.
— С фермы?
— Ну, в основном с поздравительных открыток, нарисованных Рут. И с моих стихов. Я теперь пишу поздравления в стихах. По два доллара за строчку.
— О господи.
— У нас две козы.
— А как насчет талонов на еду?
— Еда для нас не проблема. И вообще у нас мало проблем.
— Сколько ты получал, когда занимался выборами?
Я задумался.
— Это был семьдесят второй год. Я заработал семьдесят пять тысяч, возможно, даже восемьдесят.
Корсинг кивнул.
— Но дело не в деньгах. Я хочу сказать, ты занимался этим не ради денег.
— Нет, пожалуй, причина была в другом.
— Поэтому я опять задам тот же вопрос. Что случилось?
Я взглянул на сенатора и понял, что того не интересуют подробности моей личной жизни. Он просто нуждался в помощи. В глазах Корсинга засветилась искорка надежды. А вдруг, подумалось ему, благодаря моему ответу он сможет развестись с женой, жениться на Дженни, уехать на заросшую лесом ферму подальше от Сент-Луиса и послать избирателей ко всем чертям. Если я это сделал, возможно, оставался шанс, пусть совсем крошечный, что и он мог бы поступить точно так же.
Такого шанса, естественно, не было, и он, реалист и человек достаточно честный, особенно по отношению к себе, прекрасно это понимал. Поэтому я и решил сказать ему правду. Вернее, сказать то, что я принимал за правду после четырех лет размышлений о своей жизни.
— Ты действительно хочешь знать, что случилось?
Он кивнул.
— Ну, скажем так, я перестал получать от всего этого всякое удовольствие.
Он тяжело вздохнул, ссутулился, чуть повернулся, чтобы видеть окно.
— Да, какое уж тут удовольствие.
— Я, конечно, могу говорить только за себя.
Он повернулся ко мне, интеллигентный, озадаченный человек, мечущийся в поисках ответа.
— Позволь спросить, почему?
— Даже не знаю, что и сказать, — ответил я и вряд ли мог дать более определенный ответ, хотя он все еще смотрел на меня, ожидая чего-то еще, мудрого и, возможно, даже абсолютного. Но вся мудрость вышла из меня четыре года назад, и я спросил:
— Ты собираешься участвовать в выборах, не так ли? В семьдесят восьмом?