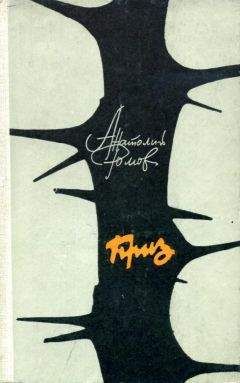— Ты… давно здесь?
Она, ничего не отвечая, отошла. И — будто отстраняя его этим движением — легла на землю, раскинула руки. Глаза ее ускользнули от него — хотя были широко раскрыты. Она сейчас прекрасна — под лучами утреннего солнца, еле прикрытая двумя лоскутками материи, легкая, стройная… Но — прекрасная — она далека от него. Далека — бесконечно. Почему же… Вот почему. Она далека потому, что всезнающа. Он же ничего сейчас не знает о ней. Ничего. Откуда же в ней это изменение? Откуда эта появившаяся в ней взрослость?
— Давно, — наконец сказала она. — Целую вечность. С тех пор, как тебя нет в Бангу.
В ее словах был упрек. Значит — она его любит. Любит — повторил он про себя. В этом и есть счастье. Но в этом счастье есть горечь. В нем, Кронго, Кро, уже возникла ревность. Да, в нем возникла именно ревность, представление, что она была с другим. Неважно, была ли она с другим на самом деле, — но он почувствовал, что она м о г л а быть с другим. И именно это мешает ему сейчас понять ее слова.
Но что же тогда — если она н а с а м о м д е л е была с другим все это время, пока его не было здесь? Пустяки. Глупости… Он знает — она ждала его. Иначе бы она не пришла сюда. Нет, это не может так продолжаться. Она не может, не должна больше жить в Бангу — без него.
— Ксата… — Кронго сел рядом. Она повернулась к нему — и он увидел в ее глазах злость, почти ненависть. И одновременно — горечь.
— Ну, Ксата. Н-ну…
— Молчи.
Это, вот эти ее слова, — любовь. Значит, она должна уехать с ним. Не когда-нибудь — а именно в этот раз. Сейчас. Он должен сейчас же настоять на этом.
— Что с тобой? Ксата?
— Ничего, Маврик. Молчи.
— Ксата… давай уедем.
Но тут же растворение, невесомость, небытие пропали. Ему показалось — сейчас этот разговор сделает их чужими. В нем вдруг возник испуг — испуг, что она сейчас станет чужой. Чужой — из-за этих слов. Он должен замолчать…
— Ты… не представляешь… Я… не мог… без тебя.
Она протянула руку, дотронулась до его щеки. Ее пальцы легко скользнули к его губам. Подбородку. Он застыл, замер под движениями этих пальцев — но ее рука отстранилась, снова легла на песок. Он чувствует, как сейчас она смотрит вверх, не мигая. Ее широко открытые глаза снова ушли от него, ускользнули.
— Давай уедем, Ксата.
— Давай.
Именно в этом ответе — насмешка. Добрая, не злая, но насмешка над ним, над его желанием всегда быть с ней. Насмешка — в этих ускользающих глазах.
— Ксата… Я… серьезно. Я… больше не могу без тебя.
— А ты думаешь — я могу?
Она повернулась к нему, вцепилась в рубашку.
— Как ты можешь только думать, что я могу? Как ты можешь только думать?
Она с бессилием, с ненавистью — к чему-то, не к нему — вдруг отодвинулась, оттолкнулась.
— Ну вот. А теперь запомни — мы с тобой взрослые. Мы же — взрослые. Слышишь, Маврик?
Тишина. Тишина знакомых звуков.
— Мы с тобой будем встречаться. Но — здесь. На берегу, в этом месте. Только здесь и нигде больше. Пусть это… мучительно… Но я не могу… уехать из деревни. Не могу. Пойми, Маврик… Пока — не могу. И я… Я… Ты понимаешь — я иду на то, чтобы мы встречались здесь. Тогда, когда ты будешь приезжать. Только в эти дни. Ты слышишь? Я иду на это — а не ты. Я согласна… на это.
Он молчал, прислушиваясь к привычному шуму вокруг — камышей, воды, птиц. Она сказала это со злостью. Но в то же время — с нежностью, с болью.
— Но — почему?
Сейчас он знает, почему. Если бы только он знал об этом тогда. Если бы только знал. Но он тогда думал — это смешно. Это все игра. Ксата все выдумывает. Ничего этого нет.
— Я… нужна деревне.
Она нужна деревне… Почему? Что за глупость? Зачем она может быть нужна деревне? Что, деревня без нее — пропадет?
— Ты… никому не должна быть нужна. Никому, кроме меня.
— Нужна. Пока — нужна. Понимаешь, Маврик? Нужна. Ну, миленький. Поверь.
Какой большой смысл стоял тогда за этими ее словами. Но он не понимал его. Не понимал. Тогда он ей ничего не ответил. В этих ее словах было для него что-то другое. Он действительно не понимал, почему же она может быть нужна деревне. Но какой-то особый, сокровенный их смысл все-таки стал тогда понятен ему. Сейчас он понятен ему до конца. Если бы только он догадался обо всем раньше. Если бы только он все понял. Все, что понимает сейчас.
— Ну вот. А… потом… Потом я уеду с тобой.
Она прижалась к нему — и он ощутил тепло ее дыхания.
— Уеду — я обещаю тебе. Слышишь, Маврик? Обещаю. Но… пока… я не могу. Мы будем встречаться здесь. Пока. Здесь, украдкой. Как… Как… преступники. Хочешь ты этого… или нет…
Он повернулся — и увидел ее глаза. Да, в этих глазах было сейчас небытие, невесомость, ничто. Растворение.
— Я люблю тебя, Маврик.
Небытие. Невесомость. Растворение. Какой бесконечный смысл был тогда в ее глазах. В каждом ее слове. Бесконечный. Но он не понимал тогда этого смысла. Не понимал. Он просто любил ее.
— Я люблю тебя, Ксата. Слышишь… А остальное — неважно.
— Мы будем с тобой преступниками, Маврик.
«Да. Мы. Будем. С тобой. Преступниками. Я согласен. Остальное ведь неважно, Ксата… Ты понимаешь?» Каким же он был тогда глупцом. Каким глупцом. Он ничего не понял. Ничего не понял — в Ксате.
Крик раздался утром — когда Кронго проверял денники.
— Морис! Морис, сюда!
Кричал Диомель, и, так как крик раздался снаружи, Кронго понял: что-то случилось там, у входа в конюшню. Стояла страшная жара, и первой его мыслью была досада. Досада на то, что нужно выходить, — Кронго не хотелось выходить из прохлады и полутьмы конюшни туда, под солнце и жару, в пекло. Но Диомель продолжал кричать, и Кронго вдруг почувствовал в этом крике что-то большее, чем растерянность.
— Морис! Морис, сюда! Морис, где ты? Скорей сюда! Морис!
Кронго почувствовал в этом крике даже что-то большее, чем испуг. Он выскочил из дверей и увидел отца. Отец лежал в странной позе: подвернув руку, закостенело вытянув ноги, — они были сейчас вытянуты и прямы, как палки. Первая мысль, которая возникла, была нелепой: почему отец, ненавидевший жару, лег здесь, на самом солнцепеке? Глаза отца были стеклянными, пустыми, но губы непрерывно шевелились, так, будто он пытался что-то сказать. С отцом что-то произошло, ему плохо — но возникшая мысль была другой, совсем не об этом. «Нужно унести его отсюда», — подумал Кронго. Отец что-то говорил, и Кронго нагнулся, пытаясь понять, что же означает это движение губ, что хочет сказать отец. Странно — Диомель почему-то не дал ему нагнуться, закричал в лицо:
— Поздно! Поздно, Морис!
Только тут Кронго увидел пену, которая выходила у отца изо рта.
— Морковка! Ты что, не видишь, Морис, — морковка?
Вместе с пеной, оседая на губах, изо рта отца плыли, выходили вместе с пузырями мелкие оранжевые крошки. Тут же Кронго заметил — глаза отца вдруг приобрели осмысленное выражение. Они вдруг стали совершенно ясными, и Кронго понял: раньше, до этого, движение этих губ было неосознанным, теперь же отец хочет ему что-то сказать. Что-то очень важное. Кронго пригнулся, с отвращением ощущая резкий запах рвоты.
— Да, па… Что с тобой?
— Ф-фис… Я только… хотел… Т-только… хотел… Взять… в-взять… Т-только… хотел…
В глазах отца снова что-то произошло. Они застыли, опять стали пустыми, стеклянными. В них снова, ничего не было. Диомель присел, жарко зашептал:
— Смотри — морковка… Морис, ты понимаешь? Смотри — да вот. Морковка у него в руке… Он должен был дать ее Гугенотке… Слышишь? Гугенотке… А съел сам…
Кронго увидел в руке отца — удивительно, эта рука отца казалась сейчас одновременно и расслабленной, и закостеневшей — огрызок морковки.
— Морис, ты понимаешь? Ты понимаешь, что они с ним сделали? Понимаешь?
Голова отца дернулась, закинулась. Вдруг Кронго понял — он умирает. Умирает…
— Папа! Па!!!
Кронго попробовал придержать отца за затылок — и ощутил легкое движение.
— Быстрей!.. — закричал он. — Вызови «скорую»!.. Диомель… Беги скорей… Скорей же, ты слышишь? Вызови по телефону… Из жокейской…
— Сейчас… Сейчас, Морис… — Диомель побежал к телефону.
Кронго огляделся — все вокруг было пусто. Стены конюшен. Дворики для прогулок. Никого не интересует, что происходит сейчас с отцом. Никого. Они одни. Вот это ощущение пустоты, ощущение, что никого нет. Вокруг только солнце и пустота. Они одни. Они никому не нужны. Никому не нужны эти закостеневшие ноги отца, вытянутые перед дверью. Ипподром под лучами солнца показался бы ему сейчас вымершим — если бы он не разглядел вдали, за оградой тренировочного круга, мерно двигавшиеся головы раскатывающихся лошадей. С телом отца сейчас что-то происходит: оно непрерывно, через равные промежутки, напрягается — и потом, выдержав напряжение, расслабляется, становится пустым, легким. Вот застыло — и одновременно с этим в глазах отца появилась тень смысла.