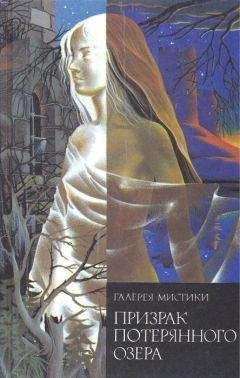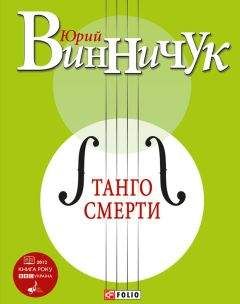– Валяйте, Олег Ефремович! – великодушно разрешил генсек. – Вы любимец народа. Вам все можно…
– Молодой охотник перед свадьбой отправился в горы на охоту, – начал главный режиссер. – По обычаям тех мест он должен был добыть горного барана и тем самым проявить перед невестой свою охотничью доблесть. И вот наконец он увидел на соседней вершине горного барана и прицелился в него из лука. Но тут откуда ни возьмись налетел огромный орел, вцепился барану в спину своими могучими когтями, поднял в воздух и потащил неведомо куда. Тогда охотник решил так: дождусь, когда орел будет пролетать надо мной, собью его, и баран упадет к моим ногам…
– Ловко! – одобрительно хмыкнул Беляев.
– Так и сделал! Стрела пронзила орлу шею, и он рухнул вниз… А баран полетел дальше!
– Как это? – удивился Беляев. – Бараны же не летают!.. – Он озабоченно завертел головой, ища поддержки у соратников.
– Олег Ефремович хочет вывести из притчи некую мораль, – холодно прокомментировал Скорочкин. – Сейчас он объяснит, зачем увлек нас своей байкой. Так зачем же, Олег Ефремович?
– Плохо, когда погибают орлы и летают бараны! – закончил тот. – Разве не так?
Воцарилась напряженная пауза, в ходе которой Беляев напряженно двигал бровями, силясь понять, есть ли в притче нечто такое, что требует его немедленной реакции.
– Мы это должны принять на свой счет? – спросил наконец Скорочкин с такой зловещей интонацией, что все напряженно умолкли, ожидая развязки.
– Бог с вами, Евгений Иванович! – сделал ласковое лицо главный режиссер. – Я – про пьесу. Это мораль, вытекающая из ее сюжета. Ленин умер… Бараны полетели дальше…
– А-а-а… – облегченно вздохнул Беляев. – Мудрено! Но в самую точку. Нынче тоже, понимаешь, летающих козлов навалом! Я как раз давно хотел вас спросить, Олег Ефремович! Ну не вас конкретно, а всех вас, деятелей культуры, так сказать. Это к вопросу о притче. Вот ей-богу не пойму: как так вышло, что во времена цензуры появились, простите за каламбур, «Летят журавли», потом «Гамлет»… то есть орлы летали… где, кстати, товарищ Смоктуновский?
– Он не занят в этом спектакле, Борис Нодарьевич…
– Жалко… Мог бы, к примеру, Ленина сыграть… Нет, я не в том смысле, – поправился Беляев, заметив, что главреж в секунду почернел лицом. – Ваш Ленин… как его?
– Табаков…
– Да, Табаков. Он толково Ильича изобразил. Мне особенно понравилось, когда он это письмо диктует. Как там: «Товарищ Сталин груб, заносчив, и надо его переместить куда подальше…». Где он, кстати, Владимир Ильич наш?
– Я здесь, Борис Нодарьевич! – отозвался розовощекий крепыш, которого никак нельзя было заподозрить даже в отдаленном сходстве с вождем мирового пролетариата.
– Трудно вождем быть?
– Трудно! – согласился тот. – Вожди – они все несчастные. Болеют часто… Жен своих не любят… Друзья и соратники их предают… Мрак! А я, наоборот, человек жизнерадостный, счастливый. Умеренно пьющий к тому же! Поэтому мне трудно эту генетическую депрессию играть. Я, верите, теперь, когда «Аппассионату» слышу, сразу пива выпить хочу. Протест такой у организма…
– Это что же получается, – помрачнел Беляев, – все вожди, по-вашему, такие? В депрессии…
– Все! – упрямо подтвердил Табаков.
– И я?
– Раз вы вождь – значит, и вы тоже! – подтвердил актер, не замечая, как все присутствующие машут ему руками: мол, охолонись, что несешь?! – Я не в том смысле, что у вас обязательно, как у Ленина, к пятидесяти четырем годам разум отшибет, – продолжил он, не замечая паники окружающих. – Я про то, что трудно быть счастливым вождем. Практически невозможно…
– Тогда скажите мне, счастливый человек, как же так: раньше кругом цензура была, от которой вы все исстрадались, несчастные, а фильмы – один другого лучше? Спектакли – загляденье? А ваш спектакль сегодняшний, честно сказать, мура полная…Так вот, скажите, почему во времена цензуры орлы наши высоко летали, а теперь… Объясните, товарищ Табаков, коль на роль вождя замахнулись!
Актер усмехнулся:
– Это как в любви, Борис Нодарьевич. Пока ищешь взаимности, негасимым пламенем изнутри полыхаешь! А добился своего – и погас костер, только всполохи от углей. Не научились пока на свободе творить. Ждем творческого ожога!
– Ну-ну… Будет вам ожог!
– Борис Нодарьевич, – вмешался в разговор директор театра, маленький лысый мужичок, который трепетно прижимал к груди какую-то бумажку. – Мы здесь открытое письмо подготовили… в прессу.
Скорочкин, который еще не успокоил сердцебиение после притчи, переменился в лице и попытался письмо перехватить, но директор его жеста не понял и, как бы извиняясь, добавил:
– Если позволите, я сам прочту. Я с выражением…
«Глубокоуважаемый товарищ председатель президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, генеральный секретарь коммунистической партии Советского Союза товарищ Борис Нодарьевич Беляев!..»
Скорочкин сделал еще одну попытку выхватить письмо, но лысый, несмотря на внешнюю неуклюжесть, ловко увернулся и продолжил:
– «…Мы, деятели советского искусства, горячо одобряем линию партии, направленную на обновление нашего общества, его решительную перестройку, ускорение и гласность. Мы последовательные сторонники истинного плюрализма и настаиваем на правах человека. Стойко поддерживаем многополярный мир и общечеловеческие ценности, преодолеваем застой и решительно осуждаем культ личности Ленина – Сталина – Брежнева…»
– А как вы относитесь к строительству объездной автодороги вокруг Москвы? – неожиданно спросил Беляев.
– Решительно поддерживаем! – ни секунды не колеблясь, заявил директор. – «Формирование партии с человеческим лицом…» – продолжил он.
– Не надо про лицо! – неожиданно попросил Беляев и подозрительно дотронулся до недавно прижившегося уха, а директор между тем продолжил:
– «…Деятели советского искусства всецело готовы, руководствуясь волей партии, талантливо исполнить роль души нации, ее недремлющего ока и чуткого уха…»
– Зачем он про ухо, Евгений? – свистящим шепотом спросил Беляев. – На что он намекает?
– Любезный! – окрикнул выступающего Скорочкин. – Передайте мне текст вашего замечательного обращения. Мы почитаем с Борисом Нодарьевичем на досуге…
– Сейчас-сейчас! Я самую суть! Вот: «…Зная, что на вас легла колоссальная ответственность, и чувствуя творческой кожей происки врагов перестройки, мы обращаемся к вам, Борис Нодарьевич: не бросайте нас! Не оставляйте свой многотрудный пост! Никуда не уходите! Даже если вас захотят демократически переизбрать на ближайшем пленуме, все равно не уходите! Лучше жизнь без партии и без пленумов, чем без вас! Не повторяйте судьбу безвременно ушедшего Ильича!»…Принято на собраниях творческих союзов… Вот!.. – Директор победоносно посмотрел на Беляева: – Это мы от всего сердца, Борис Нодарьевич! По зову души!..
Беляев шумно поднялся и краем глаза увидел, как из темного угла шмыгнул за дверь просидевший весь вечер молча Березовский.
– Это он про какого Ильича – про Брежнева, что ли? – нервно спросил он, обращаясь к главному режиссеру.
Тот неопределенно дернул плечами:
– Я, видите ли, за эту фигню не голосовал! Позорный текст! Как новый вождь, так надо непременно ему навечно присягнуть! Они и Горбачеву такое письмо писали. А до этого Андропову. Только Константину Устиновичу не успели. Написали, а он на следующий день преставился…
– Ну и когда же у нас ближайший пленум? – грозно обратился Беляев к Скорочкину. – Когда снимать меня будете?
– Да что вы? – покраснел тот. – Какие пленумы? Мы же договорились больше пленумов не проводить…
– Ну да, точно! Если что, вы и без всякого пленума… Знаю я вас!..
Уже неделю Каленин был обладателем архива доктора Шевалье. За это время не случилось ровно ничего такого, что могло бы заслуживать внимания. Каленин жил на берегу Рейна, в престижном пригородном районе немецкой столицы, в небольшом, но очень уютном доме, отличительной особенностью которого была одна из наружных стен, полностью выполненная из стекла. Эта стена выходила на реку, и Каленину казалось, что когда он сидит в кресле, любуясь вечерними огнями проплывающих мимо судов, то все, кто находится на этих баржах, маленьких пассажирских трамвайчиках или многопалубных туристических лайнерах, разглядывают его, одиноко созерцающего жизнь из-за прозрачной стены, и завидуют его спокойствию и уютной сосредоточенности.
А позавидовать было чему! Когда Каленин вместе с Куприным впервые пересек порог этого жилища, то не смог сдержать эмоций. Дом был двухэтажный, очень просто обставленный, но все в нем было сделано так ладно и с таким вкусом, что, казалось, нет такой мельчайшей детали, над которой не потрудились бы и не определили ей достойное место.