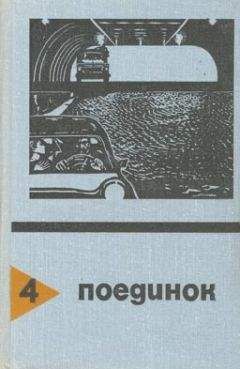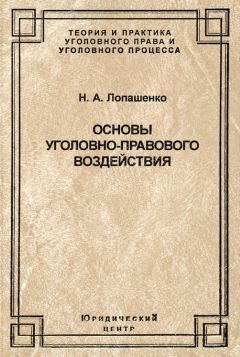— Да, — говорю.
Допил отец Игнасий какао, позвонил в колокольчик, подождал, пока сторож увезет каталку и предложил мне папиросу.
— Спасибо, — говорю. — Не увлекаюсь.
— Тогда простите, но я закурю…
— Пожалуйста, — говорю. — Но… разве священнослужители курят? По-моему, обеты, данные ими, предусматривают воздержание?
Улыбнулся отец Игнасий — печально и строго.
— Прошу вас, — говорит, — постарайтесь не касаться острых углов. Что вам до нас и наших обетов? Что вам до господа нашего, до Творца, наконец? Вы — атеист, возможно — коммунист, вам чуждо наше, как мне — ваше. Нас связывает одно: мы — люди. Так будем же ими и подойдем друг к другу непредвзято. Вас привело ко мне дело.
— Дело, — говорю.
— Тем лучше. Позвольте мне в свою очередь спросить: почему именно я, а не кто-нибудь ещё? Чем заслужил такую честь?.. Хотя подождите. Не отвечайте. Сначала выслушайте — правильно ли я вас понял. Кажется, вы предложили мне повлиять на человека, используя авторитет церкви? Так?
— В известной мере…
— Вы ищете помощи у меня, запутавшись в лабиринте чужой души? Так?
— Не совсем…
— Вы говорили: он взял на себя вину большую, чем есть? Так?
— Так! — говорю. — Всё так! Готов пояснить: человек, о котором шла речь, упорно придерживается губящей его версии, взваливает на себя чужую вину; ему грозит наказание большее, чем он заслуживает… Он католик. Вы могли бы убедить его быть правдивым, напомнить ему, что ложь по тем догматам, в кои он верит, — тяжкий грех. Поступив так, вы совершите благо.
— Благо ли?
Запнулся я. Рот раскрыл.
— А?
— Я говорю: благо ли?
— А как по-вашему?
— Нет, нет, говорите вы. Я слежу за вашими рассуждениями. Прошу вас, продолжайте.
— Хорошо. Готов повторить. Запирательство Михайловского ведет к тому, что следствие не может установить причин, по которым он стал пособником убийцы. Каждая причина — особая квалификация. Суд считается с этим. Помощь за деньги — одна мера наказания. Из страха — другая. Из любви — третья. И так далее…
— Это я понял.
— Что же вы не поняли?
— Роль. Моя роль.
— Роль гуманиста.
— О чём вы просите? О помощи? Что ж, допустим… К кому адресуетесь? Ко мне? Допустим и это. Но почему вы думаете, что соглашусь? Вы — представитель власти светской. Я — лицо духовное. Я — пастырь своих овец, но я же — овца среди божьей паствы. Мой голос — не мой голос, и мысли мои — не мои мысли. Я молюсь, но не о себе и не для себя. Творец — он дает мне силы и слова, и мудрость, и он наставляет меня в пути. Вы поняли?
— Вы отказываетесь?
— Могу молить, чтобы грешный человек сам облегчил свой крест.
— То есть?
— Не я вразумлю его, но Творец, если дойдет до него моя молитва. В его руках — всё… Верю: вы шли ко мне с надеждой. Но… Кто — вы? Кто — я? Вы — государство; вы — мир страстей, борений, азарта, грехов и раскаяния. Я — слуга божий; я — тишина и покой, прощение и смирение. Чем ниже паду, тем более возвышусь. Вы называете это диалектикой. Я — божественным промыслом. Вы говорите: прав я! Я говорю: пускай ты прав, но не я пришел к тебе, а ты ко мне. Кто сильнее? Сила или слабость? Вы, отделившие плоть от кости, или церковь — кость и становой хребет? Вы хотите жить и строить без станового хребта? Согласен! Стройте! Живите! Но… мы здесь при чём? Или ваша сила так слаба, что черпает поддержку у нашей слабости?
Он ещё издевался, этот поп! Спокойно. Ровным тоном. Без выражения в лице и голосе. Только пальцы на четках — вниз, вниз, вниз, одну бусину за другой.
Проводил он меня до двери. Поклонился.
— Прощайте, — говорит.
— Прощайте, — говорю.
Вышел я на улицу и по дороге к трамвайной остановке снимаю с себя стружку за этот бесцельный визит. Ну, чего я добился? Получил пару словесных щелчков. Отплатил тем же. И ушел с пустыми руками. Даже четок и то не достал.
Знал бы, думаю, Михайловский, что мне из-за него приходится терпеть. И главное — можно подумать, будто я для себя хлопочу. Нет же, его, Михайловского, интересы отстаиваю. Будто я не следователь, а член коллегии правозаступников.
И совсем уж некстати всплыла у меня в памяти недавняя сцена, когда рассказал я наконец Михайловскому о смерти Зоси. Вспомнил, как вскрикнул он, вскочил.
— Врете! — говорит.
— Вот протокол…
Покачнулся он и вдруг завыл, да так, что у меня по коже мурашки пробежали, а конвойный из коридора в комнату влетел — решил, что заключенный следователя убивает.
Ах, Михайловский, думаю, Михайловский! Плохо тебе, но и мне не легче. Чем тебе помочь? Как? Как убедить тебя сказать правду?
Домой я вернулся в пасмурном настроении. К счастью, ни Пеки, ни Комарова не было. Лег я на свой топчан и задремал.
Проснулся поздно, под самый вечер. Запах меня разбудил. Очень крепко и ароматно пахнет картошка с салом, ежели её томили в духовке со знанием дела. Первое на свете блюдо…
За ужином поведал я Комарову о своих невзгодах. На попа пожаловался. На Михайловского. Излил, короче говоря, душу.
Поковырял Комаров спичкой в зубах.
— Всё? — говорит.
— Всё.
— А четки достал?
— Нет, — говорю. — Забыл. До того меня этот тип разозлил… Словом, забыл попросить.
— Как же в тюрьму пойдешь? Ведь обещал?
— Обещал.
— Эх ты, обещатель! Ладно уж, на, получай…
И царским таким жестом вручает мне четки. Деревянные. Коричневые. Почти совсем такие, как видел я у Мрачковского.
С четок и началось у нас с Михайловским то, что с некоторой натяжкой может быть названо сближением. Насколько оно вообще возможно между следователем и подследственным. Позднее я научился сравнительно быстро располагать к себе людей, оказавшихся по ту сторону моего служебного стола. Случалось, конечно, что и я срывался, повышал голос. Отчетливо помню, как однажды, допрашивая в годы войны законченного мерзавца — дезертира и мародера, обложил его словами нелитературного свойства и тем самым отбил у него охоту давать показания, и притом столь основательно, что был вынужден просить своего дивизионного прокурора передать дело другому следователю, который и завершил его вполне успешно. Помню и ещё некоторые эпизоды, более или менее яркие, но — не о них речь…
С четками в кармане, волнуясь, ехал я в тюрьму к Михайловскому в битком набитом трамвае. Ехал просто так, без плана, но с каким-то самому не вполне ясным предчувствием успеха.
В самом что ни на есть отличном настроении вошел я в комнату для допросов и стал ждать, пока доставят Михайловского.
Ввели его.
— Здравствуйте, — говорю. — Садитесь.
Сказал и кладу на стол четки. Протянул он к ним руку и тут же назад отдернул.
— Нет.
— Как нет? — говорю. — Вы же просили.
— Я раздумал.
Всё моё хорошее настроение тут словно бы испарилось, а четки — лежат на столе и ехидно поблескивают пузатенькими округлённостями бусин. Гляжу я на них и с трудом давлю так и рвущуюся из меня досаду. Приминаю её воображаемым кулаком, загоняю в самый дальний и укромный угол.
— Отказываетесь? — говорю. — Эх, Михайловский, Михайловский! Сказал бы я вам, да приличие не позволяет! Ведь чтобы достать вам эту дребедень, мы… Э, да что там болтать!
Запихнул я четки в карман и позвал конвойного.
— Идите, — говорю, — Михайловский… Всё. Точка!
Скомандовал конвойный положенные «шаг вперед» и «руки назад» и собрался было вывести Михайловского в коридор, как вдруг повернулся тот, посмотрел на меня в упор и говорит:
— Спасибо!
А у самого губы так и прыгают. И кадык ходит в расстегнутом вороте.
— Ладно, — говорю. — Чего там… Идите…
Опустил он глаза.
— Нет… — говорит. — Вы не обижайтесь. Одно только слово… Вы должны понять: я вам благодарен… Я и не ожидал, не думал… То есть думал. Но — всё равно! Поймите. Мне просто нельзя их взять. Там, в камере — воры. Они отнимут… Вчера ботинки отобрали… Нет, я не жалуюсь. Что ж!.. Зачем они мне — ботинки? Не брать же на тот свет?
— Куда?
— В ад или в рай, куда попаду по заслугам или грехам.
Мигнул я конвойному: выйди, мол.
— Слушайте, — говорю, — Михайловский. Что это вы тут несете? Какой ад, какой рай? Вы что, умирать задумали?
— Я?
— Не я же!
— Какая разница, что я задумал! Решу не я, а суд!
Отлегло у меня от сердца. Тьфу ты, думаю, напугал.
Усадил я Михайловского на табурет и прочел целую лекцию о квалификации его преступления, о карательных санкциях соответствующих статей Уголовного кодекса — словом, обо всём том, что, как мне представлялось, должно было его интересовать.
Эта-то лекция и растопила лёд.
Правда, не сразу.
В тот день допрос не состоялся. Просто удалось мне Михайловского разговорить — на отвлеченную, впрочем, тему. О любви.