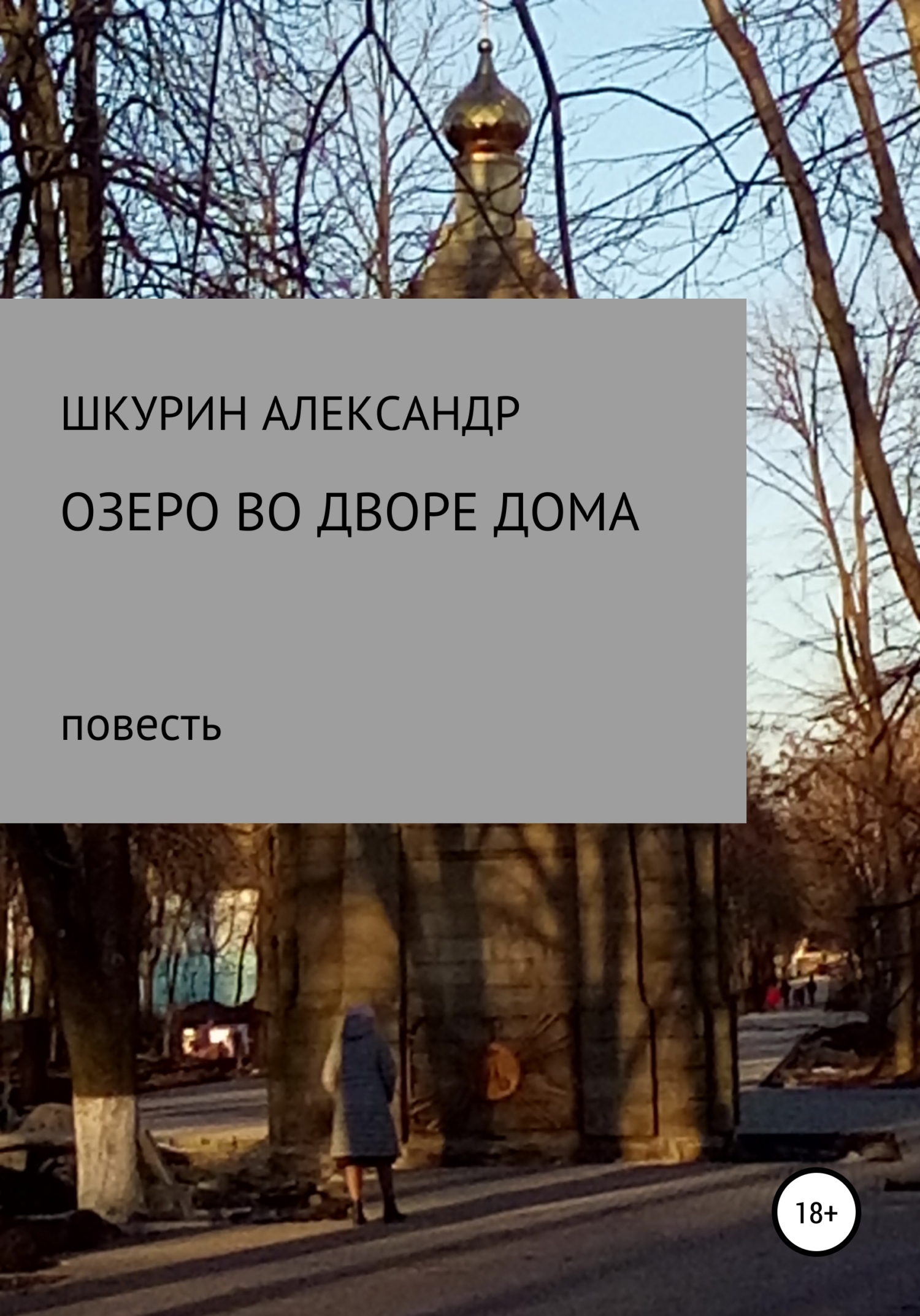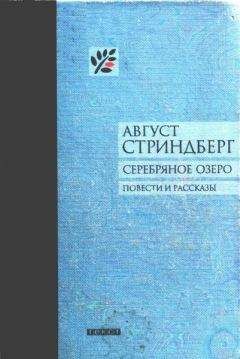за полцены.
Тут Лау сморозил глупость, но понял, когда сказал:
– Всем картина хороша, но в Иудея-то почти пустыня, и там не идут такие дожди.
Инвалид насупился:
– У меня идут. Скучный ты человек, нет у тебя воображения. Это, – он щелкнул пальцами и помедлил, подыскивая нужное слово, но так и не нашел и махнул рукой. – Не могу объяснить. У меня всегда в душе идут дожди. Я навечно прикован к инвалидной коляске, мне никогда не встать и не пробежаться босиком по утрянке. По ночам я бегаю и никак не набегаюсь. – Вдруг он всхлипнул, и по дряблым щекам покатились крупные слезы. – Что ты придираешься? Не нравится картина? Порви ее, уничтожь!
Голос у инвалида сорвался на высокой ноте, и он заплакал навзрыд.
Лау стало стыдно:
– Извини, я потрясен этой картиной. Я не варвар, у меня не поднимется рука. Только картине здесь не место. Её должны увидеть другие.
– Брось, – поморщился инвалид, вытирая тыльной стороной ладони слезы. Он уже успокоился. – Брось. Инвалидная коляска – это все, чего я достиг в жизни. Мне никогда не стать художником. Все, что ты здесь видишь, – он сделал круг рукой, – это баловство, чтобы не сойти с ума. Никто и не поверит, что это я намалевал. Поэтому картина останется здесь.
Он покатил к выходу. Лау последовал за ним. При выходе из зала в последний раз посмотрел на картину. Распятый Христос яростно сражался за жизнь, не зная, что уже ее потерял.
Когда они выбрались из мастерских, инвалид покатил по какой-то другой тропинке. Здесь они точно не шли. Лау пробирался за ним, вполголоса ругаясь. Какие-то заросли удивительно колючего кустарника цеплялись за рукава куртки и за брюки. Иногда среди желтеющих листьев Лау видел крупные черные ягоды, которые так и просились в рот. Но он остерегался их рвать, не зная, что это за ягоды.
Инвалид вывел его кривой тропинкой к заброшенным полуразрушенным домам и остановился.
– Видишь эти развалины? – и обвел их рукой.
Лау кивнул.
– Это подработки. Когда здесь бросили работать на шахтах и откачивать подземную воду, земля стала проседать. Сначала незаметные, а потом вдруг один за другим дома стали проваливаться под землю. Шуму было много. Жителей стали спешно переселять. Приезжали комиссии, судили-рядили, говорят, даже деньги под провалы выбили, а результат тот же.
Унылый пейзаж полуразрушенных зданий, совсем как на картинах русских авангардистов, кривые стены, перекосившиеся окна, кое-где блестели целые стекла, выбитые двери, вставшие на попа крыши. Асфальт на дорогах вспучился, из-под него пробивались побеги кустарника, в выбоинах желтела трава. Кое-где проглядывали лужи, полные зеленой воды. Было тихо. В воздухе носились ошалевшие последние мухи.
– Жаль, все умирает. В этом городе больше ничего не осталось, только разруха, одни террики и провальцы. Еще остались такие, как я, поэтому ты от меня так легко не отделаешься. Буду заезжать к тебе в гостиницу. Вдруг найдешь на дне кошелька рупии.
Лау рассмеялся:
– Какие рупии и откуда! Я здесь ненадолго, на три дня, а потом домой. Мне понравилось у вас, такая ушедшая эстетика советского времени, смотрится почти как век золотой, но я не любитель развалин. Люблю метро, людскую толчею и башни небоскребов.
– Но я все равно заеду к тебе. Мне скучно, а ты новый человек. Потом еще купишь пожрать вкусненького. Надоел фаст-фуд, в печенках сидит.
– Договорились, – Лау пожал руку инвалиду, – подскажи, как пройти к гостинице.
Инвалид показал рукой направление к гостинице.
Лау пошел по улице. Вдруг среди полуразрушенных домов мелькнуло голубое озерцо.
– Это не озеро во дворе дома? – спросил Лау.
– Ничего, – ответствовал инвалид. – Ты ничего не видел. Просто показалось.
– Но я видел, – стал упорствовать Лау.
– Ты ничего не видел. Это морок. Иди и никуда не сворачивай. Иначе не дойдешь к гостинице.
Инвалид смотрел вслед уходящему случайному ма-аскофскому знакомцу и размышлял. Вроде бы не жадный, но рупии зажал, даже тысчонку не дал. Отделался шаурмой и дешевым кофеем. Выходит, на халяву я ему провел экскурсию по городу. Еще умник какой выискался, в Иудее дожди не идут! У нас всегда идут, а как дождь – так потоп сразу. Хм, говоришь, приехал на три дня? Это, значит, будет еще две ночи? Может, развлечься, и приходить к нему в гости не только днем, а по ночам в гостиницу? Пускай понюхает густой колорит провинциальный жизни?
3. ПЕРВАЯ НОЧЬ
Его зовут Андрей Лаутеншлегер. Он покатал на языке свою фамилию. Лау-тен-шлегер. С юных лет он привык, что его фамилию всякий раз пытались переврать. Он спрашивал у матери, откуда у него такая фамилия. Мать пожимала плечами, – это фамилия отца, которого Андрей не знал. Отец ушел из семьи, когда он был совсем маленьким. Больше отца Андрей не увидел..
Андрей решил приготовить себе ужин. Осмотрел свои припасы: картошку, лук, подсолнечное масло, шматок сала и решил пожарить себе картошечку на сале, а потом залить яйцами. Блюдо вкусное, картоха пропитается маслом, золотистый лучок, шкварки похрустывают на зубах, а сочные колышащиеся желтки, в окружении расплывшихся белков! Прелесть. Жена не умела готовить картошку на сале. Вечно было ей некогда. Еще и пилила: вредно, вредно. Андрею не вредно, только на пользу. Он поставил сковородку, помыл картошку и стал её чистить. Черная кожура змеиной шкуркой вилась под ножом, обнажая белые сочные клубни. Он успел начистить горку картошки, когда хлопнула дверь. Андрей поднял глаза – это вошла теща, Симпета, как он прозвал ее, сократив её имя-отчество: «Серафима Петровна».
Женщина еще не старая, старающаяся блюсти фигуру, носившая шиньоны. Характер скверный, с самого начала невзлюбившая его. Впрочем, он ответил её взаимностью, когда случайно подслушал, как теща выговаривала дочери: «не пара, мол, не пара, ее драгоценной дочурке», занимавшей какую-то мелкую должности в отделе образования. Андрей легко соглашался, не пара, он всего лишь сварщик, но какой сварщик, официально трудоустроенный с отличным заработком. У Людмилки, дочери Симпеты, зарплата была просто смешной, но теща гордилась дочерью, которая чиновник, нечета какому-то работяге. Андрей, едва сойдясь с Людмилкой, купил ей и её дочке новые зимние пуховики и сапоги. Старые сильно износились, из пуховиков лезло перо, а сапоги были чиненные-перечиненные. Людмилка первое время увивалась вокруг него и умильным голоском просила, закатывая глазки:
– Ты мне купишь французские духи? Сережки с бриллиантами? Новые туфли и босоножки?
Андрей был при деньгах и покупал, ничего не жалел. Мать, правда, ругалась, что родной дочери не помогаешь, совсем забыл, а какой-то вертихвостке делаешь одни за другими подарки.
Андрей обиделся, сильно поругался с матерью и перестал к ней ходить. Стал жить у Людмилки. По ночам она крепко прижималась к нему и шептала, как его любит. В темноте белело крупное голое тело и большая пухлая задница, которая больше всего его возбуждала, и он засаживал