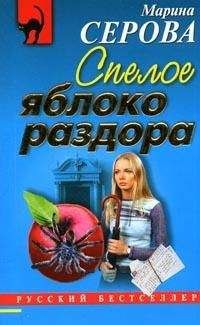Мы подъехали к кирпичному домику, скрытому зеленым забором. Иван Иванович притормозил и, жутко скалясь, а это, как я уже заметила, являлось не чем иным, как дружеской улыбкой, заявил, что нам сюда. Я вышла из машины после того, как он галантно открыл передо мной дверцу, и последовала за своим гидом к дому. Калитка оказалась открытой, а двор был непривычно для частных домов пуст: ни курочки, ни даже собачки. Мы поднялись по крутым ступенькам крыльца, и Григорьев постучал кулаком в крашенную ядовито-коричневой краской дверь. Не дожидаясь ответа, он распахнул ее и поманил меня за собой. Складывалось впечатление, что Иван Иванович здесь бывал и раньше. Тогда зачем нужно было стучать? Я пожала плечами и шагнула в темные сени, а затем и в комнату, обставленную скудно и совсем по-деревенски — с печью, железной кроватью, столом и умывальником.
— Добрый день! — жизнерадостно просипел Григорьев кому-то, скрытому в другой комнате, отделенной от нас цветастой занавеской. — Антон, ты дома?
— Иду, — ответил тот как-то уж чересчур неохотно и появился в дверном проеме.
На первый взгляд ему можно было дать и двадцать, и тридцать лет. Этакий приятно-пухлый Илюша Обломов со смазливой бледной физиономией, на которой ярко выделялись детские губы и синие глаза. Пепельные волосы и трехдневная густая щетина на кругленьких щеках дополняли его образ. Он посмотрел на нас равнодушно, потом выдавил из себя:
— Здрасьте, проходите, — и показал на кровать.
— Вот, — суетливо засипел Григорьев, — приехал, как и обещал. По поводу стишка.
— Я понял, — поджал губы Антон и присел на табурет у стола.
Я осторожно опустилась на край кровати и впервые, пожалуй, ощутила, что происходящее как-то странно напоминает спектакль, в котором я выступаю в роли зрителя. Да, тогда эта мысль мелькнула впервые. Впрочем, я ее тут же прогнала и сосредоточилась на наблюдении. А понаблюдать было за чем. В том, что Григорьев здесь не впервые, я уже не сомневалась.
— Ну, Антон, давай рассказывай, — подсказал Григорьев.
— А что рассказывать? — вяло поинтересовался тот. — Вы же…
— Как все было, — сверкнул глазами Иван Иванович, не давая Антону высказаться.
— Хорошо, — вздохнул парень тяжело и обреченно. Потом посмотрел на меня и начал: — С полгода назад я отправил Высотину дюжины две стихотворений. Хотел узнать его мнение, ну и вообще… Высотин ответил мне, что стихи сырые, что я и сам, в общем-то, знал, потому что пишу всего-то какой-нибудь год… — Снова пауза. — В общем, посоветовал не бросать это занятие и пожелал успехов. Потом знакомые предложили выбрать троечку стихов в их газету. Я выбрал, их напечатали… — Антон опять замолчал. — А потом выяснилось, что Высотин одно из моих стихотворений напечатал в своем сборнике, поменяв только последнюю строку. Вот и все.
— Вот видите, Танечка? — как-то злорадно заявил Григорьев.
Я, честно говоря, ничего не видела, кроме парня, которого заставили рассказать всю эту чушь. Не поверила я ни на грамм, и снова вернулось неприятное ощущение, что все это какой-то фарс. Однако я кивнула Ивану Ивановичу, а потом спросила у Антона:
— У вас сохранилось письмо Высотина?
Антон как-то странно на меня посмотрел, потом глянул на Григорьева и пожал плечами:
— Ну, сохранилось…
— А можно на него взглянуть? — попросила я.
Антон получил слабый кивок от Ивана Ивановича и тяжело поднялся с табуретки. Через пару минут он принес мне из второй комнаты конверт. Я достала из него лист бумаги, исписанный мелким почерком. Антон не обманывал: Высотин, если, конечно, письмо было написано им, советовал не бросать поэзию, но при этом говорил, что стихи еще слишком слабы для напечатания, называя их дневниковыми записями. Я пробежала письмо глазами и отметила, что текст как-то странно обрывается на фразе: «Вот все, что могу сейчас сказать». Ни тебе «до свидания», ни тебе «с уважением»… В общем, у меня появилось подозрение, что было в этом письме что-то еще. Однако я промолчала, предположив, что вряд ли Антон откроет мне эту маленькую тайну в присутствии Григорьева. Я посмотрела на дату отправления и сделала вид, что осталась совершенно удовлетворена: иногда полезно изобразить дурочку.
— Что же, Иван Иванович, вы, пожалуй, правы… Но, — я улыбнулась. — Антон, не сочтите меня назойливой, если я еще поинтересуюсь и подборкой, которую вы отправляли Высотину.
— Конечно, — пожал плечами Антон и снова исчез в другой комнате.
Через минуту он вернулся с папкой перепечатанных на машинке стихов. Я пролистала их, обнаружила знакомое стихотворение, под которым стояла дата, свидетельствующая о том, что было оно написано аж восемь месяцев назад. Затем просмотрела остальные, пару даже прочла, решив, что Высотин был прав — стишки страшно похожи на дневниковые записи, и вернула папку хозяину.
— У вас пишущая машинка? — уточнила я.
— Да, — ответил Антон.
— И что вы намерены делать? Доказывать свое авторство?
— Ну… — Антон беспомощно посмотрел на Григорьева.
— Ну, конечно, Танечка! — ответил за поэта критик. — Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы доказать авторство этого стихотворения.
— Конечно, конечно, — проговорила я, сделав вид, что совершенно убеждена в его правоте. — А вы, Иван Иванович, стало быть, видели все это? И письмо, и папку?
— Конечно, видел! — всплеснул критик сухонькими ручками. — Неужели вы думаете, я приехал сюда, чтобы только посмотреть на это?
— Тогда зачем?
— Ну, у меня как раз дело к Антону насчет процесса… — многозначительно проговорил Григорьев.
— Что ж, не буду мешать. Пойду покурю на улице. Спасибо, Антон. — Я поднялась с кровати и протянула ему руку: — Надеюсь, справедливость восторжествует.
— Да, да, — растерянно пробормотал молодой поэт.
Я вышла на крыльцо и закурила. Требовалось подвести итоги и сделать выводы. Итак, ощущение, что меня притащили сюда специально, только окрепло. Но кому и зачем это понадобилось? В этом следовало разобраться. Я не привыкла, когда меня используют в своих целях, да еще втемную. Но сейчас важнее другое — письмо, в котором явно недостает страницы. Что на этой странице было написано? Стихотворение, вложенное в папку среди прочих, меня, конечно, ничуть не убедило. Я не видела причины, по которой Антон не мог напечатать его позже и вложить в эту папку. И потом, как-то уж оно особенно выделялось среди прочих сусально-слезливых стишков. Почему Антон скрытничает? Уж наверняка не обошлось тут без критика Григорьева. А зачем это критику? Уж наверняка кто-то платит за эту фальсификацию. Кто? Уж наверняка тот, кто платил ему и раньше и, вполне возможно, довел Высотина до самоубийства и теперь зачем-то срежиссировал сцену, зрителем которой я стала. Кто же этот таинственный «кто-то»? И какая ему от всего этого выгода? Вывод — отыскать этого таинственного «кого-то» для того, чтобы навестить Антона без провожатых и поговорить с родственниками и знакомыми Высотина. Я докурила сигарету, и тут из дома вышел Григорьев.
— Ну что, кто выиграл пари? — хитро прищурился он.
— Полагаю, ясно без слов, — ответила я, задаваясь только одним вопросом: неужели я произвожу впечатление человека, которого так легко провести? — Едем в город?
— Конечно, — ухмыльнулся Григорьев. — Надеюсь, вы помните об условиях нашего спора?
— Помню, Иван Иванович, — заверила я, улыбнувшись. — Только прошу вас об отсрочке всего лишь на двадцать четыре часа. У меня сейчас срочные дела.
Григорьев поморщился.
— И почему это женщины никогда не хотят держать данного слова? — капризно просипел он.
— Я не отказываюсь от своего слова, — холодней, чем следовало бы, парировала я, — а всего лишь прошу об отсрочке. Завтра в это же время, то есть в тринадцать часов, я буду у вас.
— Ловлю на слове, — двусмысленно проговорил Григорьев.
— В этом нет нужды, — откликнулась я.
На обратном пути мы большей частью молчали, погруженные каждый в свои мысли. Я прикидывала, с кем в первую очередь следует встретиться и о чем спрашивать, да и что теперь вообще делать. Иван Иванович, должно быть, строил планы мести мне, а может, и покойному. При въезде в город я попросила его остановиться, потому что захотелось поговорить с ним по душам, то есть спросить его напрямую, кто же все-таки заказывал ему статьи. Иван Иванович, решив, видимо, что я передумала насчет нашего с ним спора, остановился и, заглушив мотор, повернулся ко мне с самым забавным видом.
— Иван Иванович, — вздохнув и закурив, сказала я, — ситуация такая… — Я даже глазки потупила, мол, вот как неудобненько получается, но ничего, мол, поделать не могу. — Понимаете, ко мне тут с просьбой одной обратились, и только вы сможете мне помочь…
— В чем дело? — подняв кустистые брови, спросил он. — Говорите, Таня, должно быть, дело немаловажное, раз вам так неприятно о нем говорить.