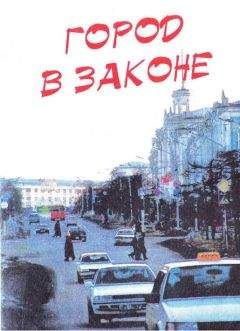Поэзия Николенко — особая, мало пока кому известная страничка в русской литературе. Есть поэты — вулканы, водопады, ураганы… Его стихи — огонек свечи, почти неслышное бормотание лесного ручья, слабое дуновение ветерка… Писал он мало, жил трудно, умер в одиночестве… Хоронило его человек пять и я хорошо помню тот промороженный день и то состояние духа, которое мной тогда овладело. К сожалению, дожив до полтинника, человек уже приобретает печальный опыт прощаний с друзьями и близкими, ему знакома атмосфера отчаяния, горя, безвозвратной потери. На похоронах Виктора этого не было — было ощущение примирения с природой, с миром, ощущение долгожданного покоя и отдыха. Как будто сама его душа — он был очень добрый и миролюбивый человек — в этот миг снизошла до нас и утешила среди этой юдоли.
Но говорили мы с Пыжовым не о Николенко.
— Три смерти за полгода, — сказал Пыжов, — Тебе не кажется это странным.
— Три с половиной, — сказал я. Мы думали об одном и том же.
Слава Пыжов за последние несколько лет здорово и во многом необъяснимо для меня изменился. Я помню его журналистом молодежки, талантливым литератором, влюбленным в жизнь и в красивых женщин парнем. Очень мягким, тактичным и неукротимым там, где это касалось справедливости… Ради нее он шел в любой бой — с хулиганом ли, с системой ли. По пятам за ним шла слава бесстрашного журналиста, к нему обращались в случаях, когду уже не к кому.
Он и сейчас работал журналистом, но писал в основном на темы религиозные. Он закончил Духовную академию, преподавал в воскресной школе. И о чем не заговори с ним обязательно перейдет на божественное. Помню, на отчетно-выборной конференции журналистов при обсуждении его кандидатуры как делегата на Российскую конференцию, один из коллег назвал его узколобым фанати-ком. Но он таковым не был — я только догадывался, какая громадная мучительная работа творилась в его душе и я едва ли подозревал в результате каких страданий и сомне- ниий, бессонных ночей и тяжелых дней пришел он к своему выбору, пришел к Богу. Уж Пыжов-то не подсвечник, и я знаю, что независимо от последних событий, исход был бы тот же… они, может быть, только ускорили процесс.
— Хотя искусить дух Господень по Симону-волхву и по Анании и Сапфире, яко пес возвращаяся на круги своя и на блевотины своя… да будут дни его малы и злы, и молитва его будет во грех и диавол да станет в десных его и изыдет осужден в роде едином. Да погибнет имя его, да истребится от земли память его. И да приидет проклятство и анафема его не точию сугубо и трегубо, но многогубо!
Да будет ему Каиново трясение, Гиезево прокажение, Иудино удавление, Симона-волхва погибель, Ариево тресновение, Анании и Сапфири внезапное издохновение, да будет отлучен и анафемствован и по смерти не прощен, и тело его не рассыплется, и земля его да не приимет, и да будет часть его в геене вечной и мучен будет день и нощь…
— Это что? — спросил я у Славы, когда он замолчал. — На молитву не похоже.
— Это анафема, — тихо ответил он. И очень серьезно добавил:
— Я знаю, что книга "Сын Сатаны" проклята.
— Как это… проклята. Она же не человек.
— Зато делали ее люди.
— За что же их, они делали свою работу?
— Это плохая работа… плохая книга.
— И кто же их… проклял?
Этот вопрос остался без ответа. Сам, мол, понимаешь.
— А Люда-то при чем? Она просто технический редактор, она выполняла свои обязанности… по приказу.
— Фашистских генералов за что в Нюрнберге судили? Они ведь тоже приказы выполняли. И судили их за отождествление с приказом.
— Ну ты сравнил…
— Разговор, похоже, зашел в тупик.
Будь это кто-то другой, я бы просто улыбнулся. Но в данный момент мне было не до смеха.
— И… что же делать? Отнести книгу в церковь, снять проклятие?
— Нет, ее надо уничтожить.
— Как ты это представляешь — двадцать тысяч тираж, пятерка — штука. В особо крупных размерах…
— Не знаю — тебе решать. Она еще тебе аукнется.
Вот тут-то я разозлился:
— Слава, я уважаю твои взгляды. Это твое личное дело — вера. Но меня всегда бесит, когда только на том основании, что люди что-то прочитали или услышали, или к чему-то приобщились, они начинают вещать и пророчествовать от имени Бога! Но ты же грамотный в этом отношении человек, ты помнишь, что сказано в Библии. Не буду ссылаться на книги, это твоя епархия, но вспомни…и будут пророчествовать от имени моего лжепророки.
— Второзаконие, глава тринадцатая, — автоматически заметил Слава. — И все равно, подумай.
Вдалеке загудел клаксон. Нас уже ждали.
Презирающий свою жизнь — хозяин и твоей.
Платон
Говоря Пыжову о трех с половиной смертях, я имел в виду себя и, если он не переспросил, то понял правильно.
Физические раны мои зарубцевались, я уже и на волейбол стал потихоньку ходить и даже танцевать при случае. Но нельзя было сказать этого о душе. Смутное состояние опасности висело, как дамоклов меч, над головой и, хотя я уже давно не ставил ружье в изголовье и не шарахался от подозрительных прохожих, все равно я был далеко не тот беспечный Федяй. И видимо, как я подозревал, уже никогда им не стану.
Занимаясь делами издательскими, суетой наших будней, охваченный в объятиях больших и малых дел, я ждал продолжения… И оно последовало.
— Ну, вот, — вздохнул в трубке Александр Михайлович, — нашел я твоего убивца. Приезжай, поговорим.
Сердце у меня дрогнуло и подкатило к горлу.
— Ладно, — согласился я. — Встретимся там же.
Там же, это значит, у "Салюта". Рядом со стоянкой "Макака". Там всегда многолюдно, одни въезжают, другие выезжают и вряд ли кто обратит внимание на минуту тормознувший автомобиль.
Джип "Чероки" — бандитская машина — подошел через несколько минут. Александр Михайлович распахнул дверцу и мы покатили.
После обмена приветствиями, традиционного полупустого трепа, Саша, вздохнув, начал:
— Сам не пойму, хорошо это или плохо, что я его нашел. Как — рассказывать не буду. По агентурным данным. Можем на него даже сегодня посмотреть, кстати, давно и не расслаблялись.
— "Империал"? — Полувопросительно предположил я.
— Ну да, в других точках ему должно быть западло сидеть. Крутой мэн.
Он явно никак не мог приступить к главному.
— Саша, кто он, тудыт твою… что ты Муму за хвост тянешь — ее давно уже Герасим утопил.
— Да сам-то по себе он шавка, никто.
— Тогда кто за ним. Сто стволов. Так столько у нас и по области не наберется.
— Наберется-наберется, не волнуйся. И стволы бы не смутили, сам знаешь, есть пока силенки и у нас, а надо — товарищи подсобят. Есть тут две заковыки.
— Первая?
— Первая в том, что ничего ты, конечно, уже не докажешь. Даже если опознаешь. И время прошло, и в случае нужды алиби он всегда организует. А улик других никаких.
— А девка?
— А где она, твоя девка! И даже если найдешь, вот тебе моя голова — либо она не признается, что это она, либо побоится выступить как свидетель… хотела бы, давно объявилась.
Я помолчал, переваривая услышанное.
— Так, а вторая?
— Он сын этого… — и Саша назвал фамилию, которую ну никак я при всем том понимании, что и страна бандитская, и нравы волчьи — не мог услышать.
— Не может быть!
— К несчастью, может.
— И ты думаешь… — нерешительно спросил я, — Он его
начнет отмазывать.
— Нет, не начнет, — после некоторого раздумья произнес Саша, — он начнет размазывать тебя. То есть он просто тебя размажет — впереди выборы, ему светит ох большая и не на нашем уровне карьера.
— Саша, — ну я же его хорошо знаю. Он всю жизнь был порядочным мужиком.
— Дурак, — заорал наконец Саша и едва не проскочил на красный свет — мы уже летели к Пионерному — ты что не понимаешь, что за ним кодла! И что бы он не решил, будет так, как кодла эта хочет. Так, а не иначе.
— Все равно, я с ним хочу поговорить.
— С кем — с ним. С убивцем или с этим…
— С этим.
— Ну предложит он тебе, в лучшем случае отступного, за все твои, так сказать, рыдания, хотя нет — не предложит. Ведь он тебя тоже хорошо знает и знает, что и ты опасен. А в такой ситуации, как у него сейчас, опасен вдвойне.
— И что же делать?
— А что делать — живи. Проглоти и живи. Как все… глянь, целому народу по морде дали и еще плюнули туда же — ничего, проглотил. А ты что себя — выше народа считаешь.
Я поневоле улыбнулся. Этой фразой он напомнил мне один из далеких эпизодов, когда меня разбирали на бюро в Тенькинском райкоме партии за фельетон "Лесной барин" о распоясавшемся директоре леспромхоза. Именно так сказал тогда второй секретарь Гагаринов. Я ему ответил:
— Народ, народ, а я навоз, что ли?
За эти слова меня вдобавок ко всему чуть ли в политической незрелости не обвинили, спасибо, что кто-то из членов бюро подсказал секретарю, что это не я, а Базаров, точнее, Тургенев. Против Ивана Сергеевича Виктор Тихонович не попер, замяли.