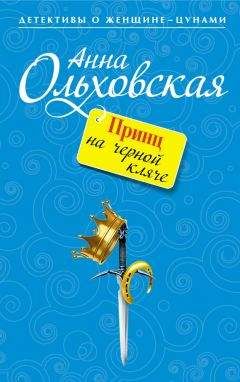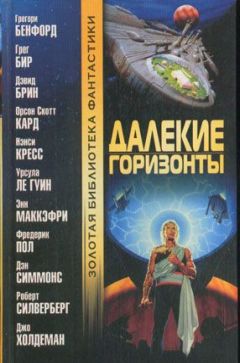Но даже профессор смог найти только одно объяснение – стресс. Мальчик явно пережил что-то невыносимо страшное, запечатавшее его память и выпрямившее сведенные вечной судорогой мышцы.
Как говорится не было бы счастья, да несчастье помогло.
Но в глаза мальчика больше никто смотреть подолгу не отваживался…
Он очень многому научился с помощью Эллара и остальных жрецов, он действительно мог карать и миловать, управлять и вести, подчинять и исцелять, но…
Без медальона из Гипербореи профессор Петр Никодимович Шустов, любимец женщин, умница и авторитет в мире науки, а еще Учитель и бог для сотен последователей, был, по сути, никто.
Нет, голова у Петра Никодимовича действительно была светлая, он с детства поражал родню способностями к учебе, но какой был бы толк от этих способностей, останься мальчик инвалидом?
Отсиживание в деревне у бабушки не помогло бы, Петю все равно рано или поздно упекли бы в интернат, после окончания которого попасть можно было в лучшем случае в ПТУ. И способность к учебе вряд ли помогла бы перекошенному парню устроиться в жизни так, как сейчас.
Да и управлять людьми тоже не получилось бы…
Петя всего один раз, где-то через месяц после выписки из больницы, попробовал снять медальон – из любопытства… Или самоуверенности?
Они с мамой тогда были в Москве, приехав на консультацию к медицинскому светиле. И как раз после приема довольно тусклого внешне светила, уверенно заявившего, что загадочное выздоровление мальчика вызвано мобилизацией внутренних сил организма, Петя и решил проверить: а вдруг это и на самом деле так?
И зря он тащился в тот день подальше от дольмена, тогда еще – действительно тащился, руки и ноги оставались скрюченными – да и еще и тележку за собой пер, чтобы отвести внимание взрослых от окровавленной «каменюки».
Сами ведь они в жизни туда не полезут, и кровь Любки успеет со временем засохнуть, а потом и осыпаться бурыми хлопьями. И никто не узнает, что там произошло.
Петя с пренебрежением вспоминал свои сопли и слезы в тот день. Надо же, он действительно хотел все остановить! И остаться калекой ради противной и гадкой девчонки, всю жизнь, сколько Петя себя помнил, издевавшейся над братом, да еще и пытавшейся убить его, когда он был маленьким!
И ничуточки не жалко, вот!
К тому же мальчику очень нравилась реакция окружающих на его взгляд. Никто, даже хулиган Вовка из их двора, который на учете в милиции состоял, не мог теперь долго смотреть в глаза Петьке Шустову!
Интересно, и чего они так боятся?
Петя был один в гостиничном номере – мать побежала по московским магазинам, гостинцев прикупить и свечку в церкви поставить за Любку, чтобы та нашлась.
Вот глупая! Нашла о ком переживать! И по ночам до сих пор плакать в подушку! Сама же расстраивалась из-за противной девчонки, так и радовалась бы, что избавилась от обузы!
А она плачет!
Батя, так тот как запил «с горя», так до сих пор и не просыхает. Пусть бы подох скорее, тогда бы они с мамой и Надей так здоровски зажили бы!
Хотя особых хлопот батяня больше не доставлял. Во всяком случае, с тех пор, как сына выписали из больницы.
Тогда, как только они с мамкой вошли в дом, пройдя через небольшую толпу знакомых и соседей, своими глазами желавших зреть, как теперь ходит бывший калека Петька Шустов, первое, что увидел раскрасневшийся от гордости мальчик, была свирепая физиономия отца.
Никодим, покачиваясь, стоял в дверном проеме, ведущем в кухню. Для устойчивости он держался руками за косяки. Опухшая от вечной пьянки мордень, огромные уши, утонувшие в глубине глазки – Петя, больше трех месяцев не видевший отца, подзабыл уже, насколько паршиво тот выглядит. И – вот странное дело – раньше мальчик мгновенно сжимался от ужаса при виде папеньки, ожидая очередной порции тумаков, а сейчас…
Сейчас он исподлобья разглядывал воняющего перегаром мелкого мужичонку, вызывавшего вовсе не страх, а брезгливое отвращение.
И даже сквозь проспиртованный мозг Никодима пробилась неправильность ситуации – маленький поганец его совсем не боялся! Мало того – не уважал!!
Да и сам поганец изменился – вместо худенького скрюченного крабеныша перед Никодимом стоял рослый, крепкий, загорелый мальчишка! Уверенно так стоял, ровно!
И – не уважал!!
– Ты… – проревел отец, мгновенно багровея от ярости, – ты чего вытаращился, уе…ш?! Ты куда Любоньку подевал, а?! Куда мою доченьку любимую… ик… красавицу… ик… дел, я спрашиваю?! Небось убил где-то и закопал, гаденыш! Я тя счас сам прибью, урод!
И он, качаясь, двинулся на сына.
– Никодим, опомнись! – вскрикнула мать, заслоняя собой мальчика. – Что ты несешь такое? Как у тебя только язык не отсохнет гадости поганые на сына родного говорить! Алкаш чертов, все мозги пропил!
– Ах ты, с-сука! – все сильнее заводился Никодим. – Вы небось вместе удумали доченьку мою укантропупить, мешала она вам! Убью-у-у-у!
– Папа, не надо! – Из комнаты выбежала прятавшаяся там Надюшка. – Не тронь Петю, он ведь из больницы только что!
– Убью-у-у-у!
Легко, словно пушинки, Никодим расшвырял пытавшихся остановить его жену и дочь и замахнулся, собираясь одним ударом пришибить этого наглого мальчишку…
И вдруг напоролся на взгляд сына.
Из глубины темных зрачков которого на него смотрел кто-то другой…
И этот кто-то был чужим. То есть совершенно чужим, не из этого мира.
Никодим почувствовал, как вдоль позвоночника промчались мурашки величиной с кулак, а весь хмель куда-то с трусливым визгом убежал, оставив голую, трясущуюся от ужаса душонку один на один с парализующей волю тьмой…
– Сатана… – прохрипел мужчина, судорожно хватая воздух ртом. – Изыди!
Он никогда не был верующим, родившись в разгар «антипоповской» вакханалии. Его не крестили, и молитв Никодим не знал.
Но сейчас откуда-то из глубины сознания всплыли слова молитвы, которую мужчина забормотал, пятясь от насмешливо усмехнувшегося сына.
А Петя медленно шел следом, цедя сквозь зубы:
– Если еще хоть раз пасть свою откроешь – тебе не жить. Если руку на мать или сестру поднимешь – тебе не жить. Если деньги из семьи красть не перестанешь – тебе не жить…
– Петечка, да что ты такое говоришь?! – ошарашенно пролепетала мать, переводя ничего не понимающий взгляд с мужа на сына. – Ты зачем за отцом гадости повторяешь? Так нельзя, сынок!
– Это не мой сын! – заверещал вдруг Никодим, закрыв лицо заскорузлыми ладонями. – Это Сатана! В Петьку Сатана вселился! А-а-а-а!
Продолжая закрываться от парализующего взгляда сына, мужчина сгорбился и попер к выходу тараном, словно кабан сквозь заросли.
Само собой, его никто не задерживал.
С того дня папенька ушел в крутейший запой, и семья с тех пор видела его от случая к случаю, чаще всего – валявшимся под чужим забором. Но домой никто его больше не тащил – сентябрь еще, тепло. Не замерзнет.
Петя и сам не помнил, что он такое говорил тогда отцу, мать его ругала потом, конечно, но мальчик не заморачивался, проверяя действие своего взгляда на остальных.
Работало! И круто работало!
Все же, наверное, он сам теперь такой стал, вон и профессор говорит: скрытые силы организма, мол, наука толком и не знает, на что человек способен, почти все наши силы и умения спят.
И медальона никто не видит, кроме него, Пети. Может, и нет никакого медальона, он его просто выдумал?
Правда, Эллар во сне говорил, что медальон могут видеть только носители Древней крови. Что это означает – мальчик так и не понял.
И вообще, Эллар этот – тоже его выдумка, сон.
Мальчик стал перед гостиничным трюмо и внимательно всмотрелся себе в глаза. Ничего такого, сильный, жесткий, уверенный в себе взгляд. Его взгляд, собственный. Правда, медальон вон он, висит. Идеально круглый, из странного серебристого материала на витом, металлическом же, шнурке, тоненьком, как нить. Но прочном – что бы с Петей ни делали в больнице, каким бы процедурам ни подвергали, шнурок не оборвался. Но его не то что не видели – не нащупали даже, а ведь всякими трубками опутывали, раздевали, когда обследовали.
Ну точно – выдумка все это!
И ничего не было там, возле дольмена, ему все привиделось, пока без сознания валялся, вот.
А Любка… Любка просто сбежала.
Мальчик насмешливо улыбнулся своему отражению и, сняв с шеи медальон, отшвырнул его в сторону.
А в следующее мгновение с жалобным криком рухнул на пол, с ужасом глядя на скрючивающиеся руки и ноги.
Но гораздо страшнее физической боли была боль душевная – он виноват в смерти сестры! Он сам отвел ее на жертвенный стол, отправил на жуткие муки! Как она кричала, как кричала!!!
Петя с трудом подтянул к ушам сведенные еще более сильной, чем раньше, судорогой руки, пытаясь заслониться от зазвучавшего внутри головы предсмертного воя Любы.
Но он становился все громче, разрывая душу и сердце на части.