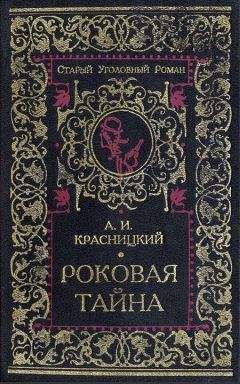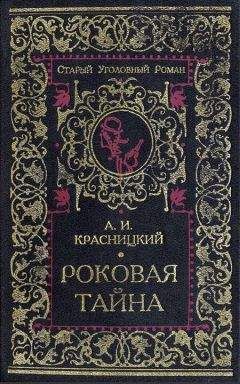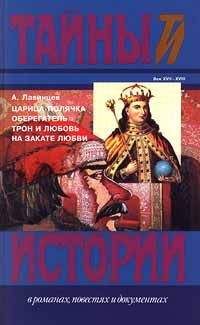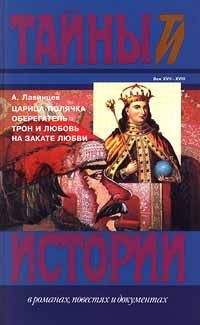– Софья! – вскочил на ноги Нейгоф. – Да разве?…
– Милый! – торжественно произнесла графиня. – Это еще не скоро…
– Но ты… ты… не ошиблась?
– Мы, женщины, не ошибаемся в таких случаях, – тихо сказала Софья.
Нейгоф глядел на нее, и по его болезненному лицу катились слезы.
– Освобождение! Проклятие с меня снято! – возбужденно заговорил он. – Я прощен отныне и небом, и землей! Софья, Софья! Да что же это? За что мне такое счастье?…
Рыдания вдруг хлынули из его груди.
– Ну, милый, успокойся, – ласково заговорила графиня. – Сядь! Я хочу поделиться с тобой своими планами. Ты знатен, ты помирился со своими родственниками. Что за милый, добрый старик – этот московский граф! – воскликнула она, отвлекаясь от темы. – Какая светлая душа! Как я счастлива, что вы, наконец, примирились… Ведь ты – его наследник?
– Титула – да, – ответил граф.
– А прочее?… Впрочем, это все равно. Важен титул – он перейдет к нашему ребенку. Ты должен трудиться. Иди на службу, служи! Помни, мы почти богаты, а это – верный залог твоего служебного успеха. Напиши своему московскому родственнику, проси протекции. В этом он тебе не откажет. Будешь писать?
– Буду, родная! Буду, счастье мое! Все сделаю, что ты прикажешь!
Жгучий поцелуй был наградой за его согласие.
– А теперь пусти, Миша, я устала, – вырвалась от мужа Софья. – Пойду, прилягу, а ты садись, пиши в Москву сейчас же; потом покажешь мне, и мы все обсудим.
Она ушла в свой будуар.
Как ни старался граф после ее ухода приняться за письмо – это ему не удалось.
„Какая радость, какое счастье! Ребенок, мой ребенок! – ликовал он. – Мой род не погиб! Софья, Софья! Какое небо послало мне тебя! За что мне, недостойному!… Она все сделала – вытащила меня с проклятого дна, помирила меня с единственным моим дядей, вернула меня в мою прежнюю семью… все она… Теперь я буду отцом! О, вот когда я хочу жить!… Вот когда смерть была бы ужасна! Нет, нет! Прочь черные мысли! Я живу, я хочу жить не для себя, а для нее, чтобы отблагодарить ее за ее благодеяния…“
Нейгоф замер. Он вдруг почувствовал, что его дыхание стало коротким. Словно что-то застряло в его груди и не пропускало в легкие воздух.
– Что это со мной? – прошептал он, приподнимаясь с кресла. – И это уже не в первый раз. Да! Сердце! – вспомнил он. – Барановский в больнице говорил, что оно непрочно… Все равно! Немного поживу, и того довольно. Скорее за письмо к дяде, прочь всякую слабость!
Он сел в кресло и принялся лихорадочно писать.
Софья из своего будуара вышла поздно.
– Отдохнула, родная? – нежно спросил ее Нейгоф.
– Выспалась прекрасно… После тряски в вагоне всегда хорошо спится, – ответила Софья. – А ты, Миша?
– Я исполнял твое приказание, – ответил граф, – писал в Москву письмо. Послушай-ка!
Граф прочел жене письмо к своему московскому родственнику. Оно было и трогательно, и убедительно. В нем сообщалось, что ожидается появление на свет Божий нового представителя или представительницы рода Нейгофов, и потому московский граф Нейгоф должен помочь своему петербургскому родственнику в стремлении трудовым путем загладить былые промахи.
– Прекрасно! – одобрила Софья. – Положи в конверт и запечатай. Я отвезу письмо на Николаевский вокзал и отправлю с курьерским; завтра оно уже будет в Москве.
– Ты сказала „я“ – отчего не „мы“?
– Я проедусь одна, ты отдыхай.
– Но я нисколько не устал; отчего мне не прокатиться с тобой?
– Да ведь тебе нужен отдых. Ты обидишь меня, если будешь настаивать.
Нейгоф покорно согласился. Софья уехала, захватив с собой письмо.
Прошло около получаса. Михаил Андреевич чувствовал, что не может заснуть. У него покалывало в груди, трудно было дышать, и, как последствие этого, появилась тоска. Но все-таки он чувствовал себя счастливым.
– Ваше сиятельство, спрашивают вас, – вошла к нему в кабинет Настя.
– Кто там, Настя? – поморщился Нейгоф.
– Не знаю, ваше сиятельство, человек какой-то. Говорит, что хорошо известен вашему сиятельству, с каких-то кобрановских огородов… Сергеем Федоровичем зовут.
В когтях хищника
Это имя говорило графу о многом. В одно мгновение вся прежняя жизнь нахлынула на него. Воскресло то, что он так страстно хотел позабыть. Кобрановские огороды, людское отребье, чайная этого человека, как единственное место, куда стремились в течение многих лет все его помыслы, постоянные побои, толчки, пинки, голод, непробудное пьянство и, наконец, как итог этого человеческого разложения, встал, словно живой, перед Нейгофом отвратительный Минька Гусар.
Граф, бледный, с трясущимися губами, молчал, чувствуя, что задыхается, что его больное сердце перестает биться.
Настя с удивлением и испугом смотрела на него.
– Прикажете, ваше сиятельство, отказать? – спросила она.
– Да, да, пожалуйста… и сделайте так, чтобы этот человек никогда не приходил.
Горничная скрылась. Из передней донесся громкий разговор, потом хлопнула дверь, и все стихло.
– Настя, Настя! – позвал граф. – Ну, что там?
– Ушел, ваше сиятельство! – вбежала Настя. – Ах, какой грубиян! Ваше сиятельство он осмелился называть старым знакомым… – Настя оборвала фразу, испытующе посмотрела на графа и прибавила: – И даже закадычным другом-приятелем…
Нейгоф молчал, опустив голову.
– А еще он сказал, – продолжала Настя, – что будет ее сиятельство графиню у подъезда поджидать… Говорит, ежели вы его к себе не допускаете, так он графине скажет, кто их благодетеля, Евгения Николаевича, господина Козодоева, ухлопал.
Михаил Андреевич поднял голову, его мертвенно-бледное лицо выражало страдание.
– Настя, милая, – застонал он, – бегите… бегите скорее… верните этого человека. Пусть он идет, пусть терзает меня, пусть, пусть!
– Ваше сиятельство! – испугалась Настя. – Что с вами? На вас лица нет…
– Ничего, Настя, скорее, скорее! Пока Софья не вернулась… Скажите ему… нет, я сам скажу… Скорее, Настя!
Удивленная, испуганная девушка бросилась за дверь.
– Конец… всему конец! – шептал Нейгоф. – Болото всколыхнулось… зыбучий песок подошел!… Но что это значит: „Кто ухлопал Козодоева“? Да разве он убит? Странно! Софья никогда не говорила мне об этом. Умер внезапно – вот все, что я знаю, но убит… убит!… Кто мог убить? Не я же! Я толкнул его тогда, он упал… Я рассказывал об этом Софье, и она не возражала мне. Не возражала – стало быть, верила… Кто убил? Или мой толчок так подействовал на этого несчастного? Не может быть!… Не может, не может!… – глухой голос Нейгофа перешел в крик. – Идут!… Дверь хлопнула… сейчас, сейчас…
– Вот так давно бы! – гремел в передней голос Сергея Федоровича. – А то ишь ты, какие нежности: „Не принимают“!
– Пальто ваше позвольте! – раздался голос Насти.
– И так хорошо! Не привычны мы к этому барству.
Сергей Федорович в пальто и галошах, только сняв с головы картуз, ввалился в гостиную и сразу наполнил ее отвратительным запахом пота, прели, трущобной кухни и водки.
– Вашему сиятельству – почет! – возгласил он, протягивая Нейгофу красную руку.
Граф с ужасом смотрел на него, инстинктивно пряча руки за спину.
– Не хотите – не надобно! – заметил это гость. – Оно всегда так: старая хлеб-соль забывается! А я-то спешил… Вот, думаю, друга милого обрадую, а он вон как теперь. Уж я сяду, в ногах-то, говорят, правды нет!
Он плюхнулся в кресло, чуть не продавив его своей массивной фигурой.
– Что вам угодно от меня, господин Коноплянкин? – едва нашел в себе силы выговорить Нейгоф.
– Ага! – засмеялся гость. – И фамилию мою, ваше сиятельство, вспомнить изволили? Думал я, позабыл ты, как и зовут меня… Грех это, грех – старых друзей не помнить! Попал в честь, так и из головы вон. Нет, у нас так не делается…
– Что вам от меня нужно, господин Коноплянкин? – повторил уже более решительно граф.
– Что мне нужно? – переспросил, нагло хихикая, Коноплянкин. – Ой, как много нужно мне, ваше сиятельство! Столько нужно, что в целый ерестрик не уместится… Беднота ведь мы, голь перекатная. Что мне нужно от тебя, ваше сиятельство, спрашиваешь? Так, видишь, на деревне, откуда я родом, избенку хочу новую завести, да не развалюху, а в два яруса, и чтобы крыша железная была. А это, по-твоему, денег не стоит? Потом чайную-то на пустырях побоку хочу. Пора уже! Надоело с вашим братом возиться… грех один!… Так я уже и ресторацию одну на Обводном, от Нового моста недалеко, присмотрел; сдается, так взять хочу… Понимаешь, ваше сиятельство, какие такие горизонты у меня?…
Он остановился и выразительно поглядел на Нейгофа.
Тот смущенно молчал.
– Неужто не понимаешь? – даже удивился Коноплянкин.
– Послушайте, – наконец нашел в себе силы выговорить граф, – какое мне дело до всех ваших планов? Вы говорите о каких-то постройках, о приобретении нового кабака… При чем тут я?