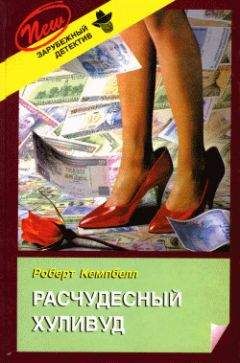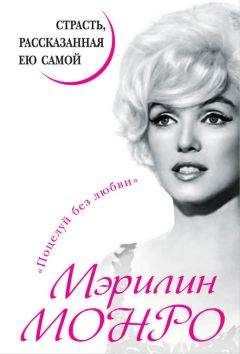Янгер прочистил горло, как будто первая произнесенная им фраза уже надорвала, если не полностью истощила его речевые возможности, и ответил, что ему ясно.
Ему было приказано вернуться в камеру на все время, необходимое для проведения канцелярской рутины.
Он вернулся в камеру, сел на койку, уставился на собственные ладони.
– Эти ублюдки думают, что я, на хер, ничего не соображаю, – внезапно произнес он. – А я, на хер, все соображаю.
Мачелли не спросил его, что он имеет в виду. Вор считал сокамерника тупицей, и следить за течением его мыслей ему было так же интересно, как за течением мыслей коровы. Он просто хмыкнул.
И вдруг Янгер встал с койки, поднял вверх стиснутые кулаки, запрокинул голову, разинул рот и еле слышно зашипел от восторга. Это был голос зверя, собирающегося на охоту, собирающегося убивать и убивать.
Шесть утра. Такой славный денек, как настающий сейчас по другую сторону стеклянной витрины кофейни "У Милорда", расположенной за один квартал от перекрестка Голливудского бульвара и Виноградной, где толпятся проститутки, – такой славный денек не так-то часто выдается в Хуливуде, который и сам был когда-то подобен провинциальной красотке с золотистыми волосами, и свежим дыханием, и фигурой с привлекательными формами, хотя и не склонной к полноте. Конечно, эта красотка видывала кое-какие виды и даже поучаствовала в парочке фильмов с убийствами, но все же умудрилась сохранить в своем облике некоторую невинность.
Однако проходили годы – и время оказывало на шоу-столицу губительное воздействие. Эту красотку все время пользовали и использовали – и вот уже на хуливудских костях завелись вороны, крысы, амбарные совы и прочая нечисть того же сорта и принялись обращаться с беднягой так, что кто угодно непременно сошел бы с ума, окажись ему все это в диковинку.
Человек по фамилии Уистлер, повсеместно известный под кличкой Свистун, частный детектив – как это называлось в те дни, когда Дэшел Хэммет напивался в стельку, а Хамфри Богарт носил пальто полувоенного покроя, – испытывал от этого города изрядную усталость.
Сведущие люди утверждали, что Свистун знает Хуливуд лучше, чем кто бы то ни было другой (за исключением детектива, специализирующегося на преступлениях против несовершеннолетних, по имени Айзек Канаан, однорукого бармена «Милорда», которого звали Боско, и сутенера со стеклянным глазом по имени Майк Риальто), и что никому другому так не доставалось от этого города, как ему.
И все равно Свистун и Хуливуд были славной парочкой: столица разврата зарабатывала, чем придется, а ее возлюбленный – чем попало.
В хороший денек вроде нынешнего их обоих по-прежнему можно было принять за создания в самом цвету, их мечты и надежды позванивали у них в мозгу золотыми и серебряными монетами.
Боско подошел к столику, за которым сидел Свистун, подлить ему кофе. В одной руке у него был кофейник, под мышкой обрубка другой – книга Генри Дэвида Торо "Уолден, или Жизнь в лесу". Подметив кое-что в глазах у Свистуна, бармен подсел за столик в нише у окна и улыбнулся столь же скорбно, как сам частный сыщик.
– Ты мне расскажешь свой сон, а я тебе свой, – предложил Боско.
– Как ты догадался?
Свистун поглядел на Боско без особого удивления, потому что все и без того знали, что бармен общается с духами и знает многое из того, чего не знают обыкновенные люди.
– О чем догадался?
– О том, что мне приснился сон.
– Всегда можно поставить шесть против одного на то, что человеку что-то приснилось. Сны снятся всем.
– Но многие ли из нас запоминают свои сны?
– А это уж другое дело.
– Мне снилась девушка, которую я когда-то знал. Ее звали Фэй. А было это в середине семидесятых.
– Не говори мне о семидесятых. Как раз в семидесятые я потерял руку в перестрелке – и мне с тех пор все время чего-то недостает.
Свистун пропустил мимо ушей эту мрачную шутку.
– Во сне мне было тридцать лет и я сидел здесь, дожидаясь, пока из-за угла не выйдет моя красавица. И пока я следил за нею, она остановилась и ступила на отпечатки на тротуаре, оставленные Мирной Лой.
– А как ты понял, что именно Мирной Лой?
– Это был сон, а во сне всегда понимаешь что-то такое, чего не понять наяву.
Боско кивнул, соглашаясь с выдвинутым тезисом.
– Я перебежал через дорогу и приобнял ее сзади, – продолжил Свистун. – А когда она обернулась, я понял, что она не узнает меня. Я хотел поцеловать ее, но она увернулась и сказала, что не целуется с незнакомыми мужчинами. Я почувствовал, как слезы навернулись мне на глаза, а она прикоснулась к моей щеке и сказала: "Эй, почему ты плачешь?" И тут я проснулся, и на меня нашла тоска, и она не оставляет меня до сих пор. Все утро. Ну, знаешь, как это бывает. На самом деле ничего страшного. Этакая сладкая печаль – и я понимаю, что просто так она не пройдет.
– А ведь это в двенадцати кварталах отсюда по бульвару, – заметил Боско. – А "У Милорда" в семидесятые просто не было.
– Что-то на этом месте все равно было. Мы живем среди теней. И, кроме того, снам нет дела до таких нестыковок.
– Только не надо тебе погружаться в мир снов или, допустим, кинофильмов, – сказал Боско. -Кровь от этого портится, а мозги превращаются в спагетти. Сны, кинокартины и посулы амбициозных красоток нельзя воспринимать серьезно.
– А тебе когда-нибудь снились счастливые сны?
– Ясное дело. Снилось, что сижу в этой нише, одной рукой обнимаю рыжеволосую красавицу, а другой себе подсобляю.
– И что ты почувствовал, когда проснулся?
– Почувствовал, что у меня всего одна рука, да и в той – кофейник.
Айзек Канаан вошел в зал и тут же обнаружил Боско за столиком у Свистуна. И кофейник – на столике. По дороге он прихватил со стойки пустую чашку и, усевшись, налил себе кофе.
– Едва теплый, – сказал Боско.
– Так пойди принеси мне горячего. Произнеся это, Канаан наполнил чашку доверху и сделал глоток.
– Серная кислота, – констатировал он.
– Я же тебе говорил. – Боско поднялся с места. И напоследок обратился к Свистуну с увещеванием: – Я тебе говорю, следи ты за этими снами как следует. Если человек, едва очнувшись от сладких грез, погрузится в реальность, у него может разорваться сердце.
– Вот уж чего я себе никогда не позволю. – Свистун, отвернувшись от Боско, поглядел в окно. – Не смей лишать меня снов! Я был здесь – и точка. А "У Милорда" действительно не существовало, потому что его тогда не существовало. И тебя здесь тоже не было.
– А я-то хоть был? – спросил Канаан, даже не зная, о чем они разговаривают, а просто желая поучаствовать в беседе, потому что он только что пришел сюда с улицы, где ему доводилось разговаривать разве что с ворами, бродягами и погрязшими в пороках детьми, которые, даже беседуя с полицейским, строят ему глазки.
– Да вы что, мы с вами и знакомы-то не были, – ответил Свистун. – Так с какой же стати вам было оказаться со мною рядом?
Боско, подавшись вперед, приобнял Свистуна за талию, однако тот и ухом не повел.
– Ничего не чувствую. И никого здесь нет. Сижу и дожидаюсь мою красавицу.
Внезапно он выпрямился как ужаленный и смертельно побледнел, так что Боско и впрямь решил было, что стремительно очнувшегося от мечтаний друга хватил сердечный удар.
– Какого черта? – спросил Боско.
– Вот именно, – поддакнул Канаан.
– Такие сны порою сбываются.
Свистун выскользнул из ниши и бросился на выход, прежде чем Боско успел произнести хотя бы слово.
Бармен вновь присел за столик. Они с Канааном увидели, что Свистун помчался по бульвару, не оглядываясь по сторонам, не уворачиваясь от проезжающих машин никак иначе, как негодующими жестами, продираясь сквозь толпу, состоящую из проституток, сутенеров, тайных агентов полиции и наркосбытчиков. И мчался он туда, где стояла миниатюрная женщина с платиновыми волосами и с кольцами на каждом пальце, а стояла она, уставившись на собственные сандалии и на бронзовый слепок ноги какой-то знаменитости на Тропинке Славы. Свистун обнял ее сзади. Она обернулась, изумилась и отпрянула, тогда как он вроде бы полез к ней целоваться. Потом он поднял ее и закружил в воздухе, всматриваясь в ее лицо, тогда как она, наконец вглядевшись в него, принялась смеяться и гладить его по щекам, причем хохотали они сейчас уже оба, во все горло, щеголяя белозубыми улыбками.
– Кажется, наш друг попал в беду, – заметил Боско.
– Мы все попали в беду, – ответил Канаан. -Где мой горячий кофе?
Пол Хобби в свое время стал в Голливуде живой легендой. Едва закончив бизнес-колледж в конце шестидесятых, он взял три тысячи собственных, три – одолжил у своего брата и десять у родного отца, уговорил банк предоставить ему кредит на четверть миллиона и запустил картину.
Картина называлась "Буль-буль на балу боли", и в нее было втиснуто все, включая (но далеко не ограничиваясь ими одними) лесбиянок в руках у маньяка, враждующие банды мотоциклистов-насильников, женщин, распиливаемых то электрическими, то механическими пилами, нашествие тарантулов, космические чудовища и группу панк-рокеров под названием "Три петушка в одну пипочку". Затраты на картину окупились стократно, а ее прокат привел к возникновению культа, отголоски которого еще можно было расслышать в полуночных шоу через двадцать лет.