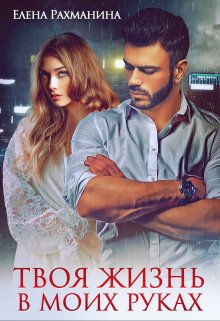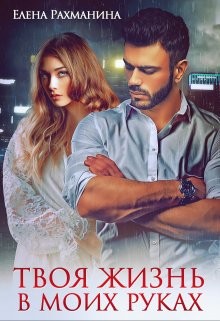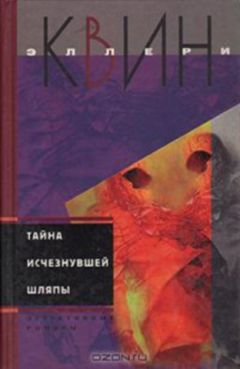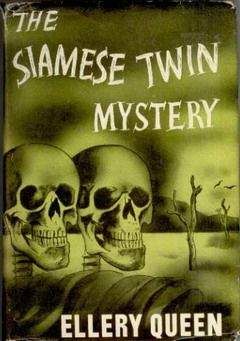том, какими трагическими, но вполне реальными тайнами всецело поглощен наш ум?
* * *
Вы упрямо тешите себя иллюзией, что выкажете достаточное уважение к читателям, предложив им плод немалых своих усилий, и следовательно, вам нечего больше о них беспокоиться. Именно это кажется мне сейчас невозможным, если даже предположить, что это вообще когда-то было возможно. Уже в течение нескольких лет происходящие в мире события — впрочем, это скорее лишь начало их, лишь подступ к самим событиям, — порождают между массами и интеллектуалами, во всяком случае теми, кого волнует судьба и будущее человечества, некое движение, взаимное обогащение какой-то новой энергией. Мы были подготовлены к этому с первых же шагов нашей юности. Мы все время сохраняли эту готовность и эту причастность. (Следует признать, что на этот счет я могу высказать вам лишь свое удовлетворение.) По что полезного и поучительного для себя найдут в детективном романе именно эти знакомые и незнакомые друзья, чьи свидетельства и вопросы задевали вас за живое, неотступно преследовали, те, что требовали, чтобы вы, как и все остальные писатели, помогли им выразить свои мысли, разобраться в самих себе и объяснить другим. Какой найдут они здесь отголосок, отзвук той каждодневной драмы, среди которой вынуждены существовать?
* * *
Вы не шевелитесь. Казалось бы, наше уснувшее тело безмятежно отдыхает. Подозреваю, однако, что последуют самые решительные возражения, мне случалось уже наблюдать, как яростно вы защищали других, и вряд ли вы проявите меньше резкости, когда дело касается вас. Прежде всего вы утверждаете, что та или иная форма романа не исключает ни единого из достоинств, присущих романическому жанру в целом. По главное, вы требуете — не так ли? — права на развлечение. Вы даже уверены, что тут нечто большее, чем право, — долг. Долг автора, а следовательно, также и читателя, каким бы он ни был, особенно когда он утомлен. Получать удовольствие — возможно, первейшая жизненная потребность. Если это принимают без всяких оговорок, когда речь идет о живописи, о музыке или спорте, о пище или любовных радостях, короче, почти всех формах искусства, заявляете вы, — почему же отказывать в том письменному творчеству? Обычно еще соглашаются признать такое право за поэзией: она может воспевать лунный свет, и никто не обвинит ее в том, что она «предает свое высокое назначение». Прозаик требует этого права также и для себя, права на чувственное наслаждение писанием, которое жалуют поэту и которое влечет за собой столь необходимое наслаждение чтением.
* * *
Берегитесь, отвечали вам на это ваши друзья, и я, в свою очередь, так же отвечу. Как отличат ваш роман от тех романов, которые вы первый осуждаете, поскольку они выступают союзниками, пособниками некоего непоследовательного и коварного мира, особенно упорно старающегося сохранить себя? Может, вы к тому же дадите
достаточные «гарантии», чтобы не судить о вас по одним лишь внешним признакам? Я знаю вас, вы этого не сделаете. А если бы даже сделали, разве вы заставите кого-то поверить, что ваше будущее творчество не станет отличаться от прошлого и что столь дорогие вашему сердцу игры не уведут вас на опасный путь? Еще раз скажу, я знаю, что вы всегда действовали подобным образом. Увы! мой дорогой друг, повадился кувшин по воду...
* * *
Пора кончать. Мы заворочались в своей постели, ночь близится к концу. Должен ли я снова замкнуться в своем молчании? Или же я наконец смог убедить вас? И услышу от вас при пробуждении: «Вы правильно рассудили, рассудок мой. Я не примусь за прежнее»?
Ответ автора:
ВАГОН 7, МЕСТО 15
Глава первая ОТЪЕЗД
Как печально выглядит Северный вокзал! Он наверняка показался бы мне иным, если бы в тот вечер я уезжал в Кельн, Амстердам или Осло. Конечная цель путешествия бросает отблеск своих радостей или тревог и на самый пункт отправления. Но я не рассчитываю этой ночью уехать дальше Онуа, и мне не удается вызвать в своем воображении ничего, кроме какой-то зловещей провинции. Зловещей и обледеневшей, поскольку сейчас подмораживает. Миловали теплые мягкие дни, зима очистила землю и небо от всего, что навевало мечты о весне. Если бы те наши края не были такими безлюдными. Не то чтобы я нуждаюсь в зрителях. Одиночество как нельзя лучше соответствует особенностям моей работы, по крайней мере той, которой я собираюсь заняться сегодня. Но от того лишенного обычного оживления перрона, по которому , точно бессильные тени, бредут железнодорожные
служащие, веет чем-то тревожным, настораживающим. Освещение здесь столь скудное, что все лица кажутся похожими одно на другое — усталые, посипевшие от холода, лишенные всякой надежды. Что за дурацкая мысль прийти за двадцать минут до отправления поезда! Но это не моя вина.
Убить на вокзале целых двадцать минут... Я сначала прогулялся вдоль вагонов, прекрасных металлических вагонов, сверкавших точно ракеты. На моем вагоне две надписи, первая: ПАРИЖ — БРЮССЕЛЬ. Под ней одна-единственная цифра: 7. Как будто так уж необходимо было нумеровать вагоны в такой ненастный вечер, когда почти все места в поезде свободны, когда путешественник, устроившись в уголке у окна, клянет собственную предусмотрительность, из-за которой потерял столько времени! Вот наконец я в коридоре вагона, где все же не так холодно, несмотря па опущенное стекло. Я курю. До чего забавно курить, когда у тебя усы! Особенно такие густые, как у меня сегодня. Эта шутка может плохо кончиться, если не быть осторожным.
«Подушки, одеяла!» Гляди-ка, подушки теперь в бумажных наволочках? Когда я был маленьким и мы с отцом уезжали отдыхать, он мечтал о такой вот реформе. Никакой личной заинтересованности тут не было: и речи идти не могло о том, чтобы мы с ним воспользовались подобной роскошью. Короче говоря, очень давно я не путешествовал ночью. И уж совсем-совсем давно я не путешествовал зимой. Даже не припомню, когда в последний раз был на Северном вокзале. Знаете ли вы, что теперь па Северном вокзале все надписи даются на двух языках, как в Бельгии? На французском и па эсперанто? Кто бы поверил, что эсперанто существует! Выход — eliro; расписание прибытия поездов — horaro de alveno; багаж — pakajoj, Особенно мне нравится pakajoj. В этот вечер у меня нет pakajoj. Может, надо было вернуться домой... А если в дороге захочу прилечь? А, да ладно!
Подушки не пользуются успехом: поезд прибывает в Брюссель еще до полуночи. Однако мой сосед по вагону зовет проводника и берет