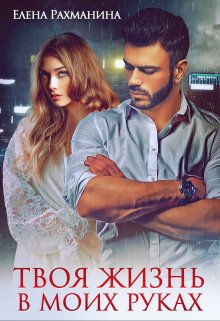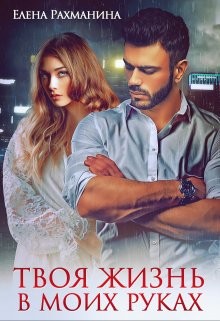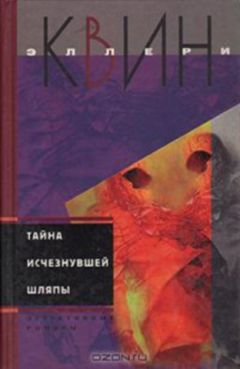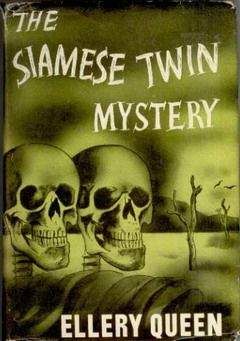у него две подушки. Великолепно! Я говорю — мой сосед по вагону, а не по купе. Потому что во всем вагоне нас всего двое — он и я. Только бы никто больше не сел до отправления! Я уверен, что никто и не сядет. Наш вагон находится в голове поезда, впереди нас только багажный и почтовый вагоны; чем ближе время отправления, тем меньше опоздавших успеют сюда добежать. Даже разносчики со своими тележками не решаются забираться так далеко. Мы у самого конца крытого перрона, а дальше уже — небо. Если взглянуть направо, можно разглядеть заводскую трубу и две крыши больницы Ларибуазьера, на которых заметны неясные, словно бы затерянные следы снега, а там, в вышине, с ними перемигиваются несколько очень ярких звезд. Ох и холодно же станет часа через два! Налево смотреть бесполезно: стекло (да и стекло ли это?) совершенно черное, грязное, отвратительное. Совсем рядом пыхтит невидимый паровоз. Вагон чуть дрогнул: это наш поезд, мы скоро отправляемся. Белый шипящий нар вырывается из-под колес. Пусть уж нас немножко согреют!
Проходит еще пять минут. Тягач тащит по перрону целую вереницу тележек, он спешит к почтовому вагону. Десятки мешков. Если поезд тотчас же пе отойдет, я наверняка погружусь в философские размышления о содержании этих серых мешков «Пост-Франс» — о печалях и радостях, просьбах и лжи, мошенничестве и кражах... Настоящий ящик Пандоры. Вот великолепная острота! Жаль, что я тут один.
Восемь часов. Поезд трогается так мягко, неслышно, что заметить это можно, только глядя в окно. Итак, мы поехали. И я вдруг испытываю какую-то радость, чувство освобождения. Нет ничего мучительнее, чем застывшее ожидание, ощущение его бесполезности. Мы еще не покинули пределы Парижа, а поезд уже набирает скорость. Превосходный поезд! Никаких остановок до самого Онуа. Двести шестнадцать километров за два часа шесть минут: больше ста километров в час. А потом...
Я поднимаю стекло и устраиваюсь поудобнее.
«Пари-Суар», «Энтрансижан». Ничего того, что меня интересует. Напрасно я ищу сообщения «в последний час», «в последнюю минуту»... Однако все вроде бы должно было начаться около полудня? Нет, ничего. Тем лучше. Будем довольствоваться чтением официальных новостей за день. Положение внутри страны не слишком блестящее, ситуация в Европе и во всем мире ненамного лучше. Передовицы исполнены самого мрачного пессимизма. Но меня это мало задевает. Разве я перестаю от этого быть добрым французом? Наоборот. Это как раз и есть признак доброго француза, когда общие соображения уступают место личным заботам. Впрочем, сегодня вечером меня можно извинить...
Короткий звонок. «Первое блюдо!» Никем не останавливаемый официант вагона-ресторана доходит до самого конца коридора. Пустынность вагона огорчает его, и он спешит вернуться назад, чтобы сообщить скверную новость своему начальству. Я знаком подзываю его.
— В котором часу второе блюдо?
Официант насмешливо качает головой.
— Его не будет, мсье. Подумайте только, такая уйма народу! Я такого еще никогда не видел. Не желаете ли билетик на первое блюдо?
Упорство, с каким он называет так единственное кушанье, предлагаемое пассажирам, вызывает у меня улыбку.
— Нет, благодарю вас.
Он удивленно смотрит на меня, но добавляет:
— Если вы все же передумаете... Мы постараемся вас пристроить.
Я не пойду в вагон-ресторан. Я съел на всякий случай сандвич часов в семь. И с меня достаточно. Бывают дни, когда от волнения сосет под ложечкой, а в иные нервничаешь так, что забываешь о голоде, жажде, сне. Ну вот, я мог бы сейчас немного соснуть, вроде бы ничто этому не мешает; бояться мне некого, еще целый час ничего не надо предпринимать — целый долгий час... Но нет. Несмотря на укачивающий монотонный перестук колес, я не усну. Наоборот, меня одолевает желание двигаться, ходить, прыгать, перелезать через изгороди. Уже куда-то испарились чувство облегчения, разрядки, радость от того, что мы едем. Может, выкурить сигарету? Нет, лучше трубку. При усах это надежнее. Я предпочитаю трубку.
Сквозь клубы дыма я тщательно изучаю купе: зная план своего купе, я буду знать и все остальные. По отношению к другим пассажирским вагонам, это ближайшее, примыкающее к тамбуру купе седьмого вагона. И следовательно, последнее в вагоне по ходу поезда. Все здесь как и положено в первом классе: шесть мест — три и три, друг напротив друга — широких и удобных, для чиновников высокого ранга. Подлокотники, подголовники. На потолке три лампочки: одна синяя, сейчас не горящая, обрамленная по бокам двумя белыми, и все это внутри чаши из искусственного хрусталя. Две сетки для pakajoj. Вешалки. Что, если снять пальто и шляпу? Но мне кажется, сними я пальто — и буду чувствовать себя каким-то незащищенным, лишусь возможности постоять за себя. Глупость. Достаточно переложить из одного кармана в другой некий небольшой предмет... Вот и готово.
Продолжим наше обследование. По одну сторону двери выключатель. По другую — кнопка сигнала тревоги. Тут дело тонкое. Прыжок, протянутая рука, и ничего больше! Надо будет оставаться перед дверью, предупреждать каждый жест, каждое движение. Ладно.
Над одним из диванчиков зеркало. Господи, до чего же я забавно выгляжу с этими усами! Они наверняка не делают меня неузнаваемым для того, кто умеет читать во взгляде. Будет надежнее надеть шляпу, надвинуть се на глаза. Здравствуйте, мсье! Вы не внушаете доверия. Только ваша трубка, старая добрая трубка знакома и привычна мне и кажется вполне добропорядочной па этом чужом лице.
Напротив зеркала, в рамке красного дерева, великолепная фотография «Пещеры Гента». Огромное подземное озеро, по которому плывет лодка с туристами, оленями так, как одевались в 1910 году. Начальник экспедиции стоит на носу с горящим факелом в руках. Может, пот поезд бельгийский? Да нет, белая филейная вышивка повторяет на каждом сиденье слово «Северный». Может, просто реклама? Какое это имеет значение. Важен только сигнал тревоги.
Поезд летит на полной скорости под равномерный стук колес, которого я уже не замечаю. Проехали Шантийи — мы в пути уже двадцать минут. Рядом с кнопкой сигнала тревоги появляется контролер.
— Ваш билет, пожалте.
Это старый железнодорожный служащий, тучный, с одышкой. Он тяжело дышит, вытянув трубочкой губы: точь-в-точь толстая, трепыхающаяся рыба. Он рассматривает мой билет с одной стороны, потом с другой, пробивает его. Крутой поворот дороги вынуждает его прислониться к косяку двери.
— Вот и снова настали холода, — говорю я ему.
Он возвращает мне билет, но не произносит ни слова, так что мои запал пропал даром. Ему предстоит еще проверить билет у моего соседа, и на этом его обход кончается. Я