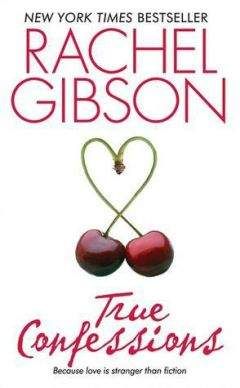– Тебя, – сказал Долгов и повернулся к Кате для каких-то своих разговоров.
Но что делает Епихин!
О, как поступает Епихин!
Епихин не вышел тут же в ангар, чтобы выяснить, в чем дело, он протиснулся между столом и стулом, на котором сидела Катя, потом, втянув живот, просочился между сейфом и сидящим Долговым, подошел к шкафу, взял положенную там Катей свою папку и потом снова повторил весь свой путь в обратную сторону, и только после этого вышел в цех.
Катя неотрывно наблюдала за ним широко раскрытыми глазами.
– Ты заметил? – спросила она у Долгова, когда Епихин вышел из кабинетика.
– Что?
– Рабочие обращаются по производственным делам не к тебе, а к нему?
– Ну и что?
– Раньше эти вопросы решал ты.
– Значит, смена подросла! – ответил Долгов. – Мне, слава богу, есть чем заниматься.
– Как-то незаметно это произошло... При том, что ты чаще бываешь здесь, чем он. Епихин постоянно торчит среди рабочих... О чем они могут говорить?
– Конечно, о бабах! – расхохотался Долгов. – О чем же еще!
– Хорошо бы, – вздохнула Катя. О том, как Епихин пробирался к своей папке, чтобы выйти с ней на одну минуту и вернуться снова, она мужу говорить не стала, не настроен был Долгов озадачиваться странностями поведения Епихина, не видел он ничего настораживающего, да и не желал видеть.
– О чем вы здесь трепались?
– Ему не понравилось, что я называю его Епихиным.
– А как надо? – не понял Долгов.
– Валентин Евгеньевич!
– Ни фига себе! Перебьется!
Вошел Епихин, снова протиснулся к шкафу и положил на самый верх свою папку.
– Что случилось? – спросил Долгов.
– Сучков, говорит, многовато в древесине. На липу захотелось ему перейти, дерево, дескать, мягкое, обрабатывается хорошо и вид пристойный.
– А мне с сучками больше нравится, – заметила Катя. – А липа – серая, вялая, невыразительная... Она только для сауны хороша, из нее смола не вытекает при высокой температуре.
Катя решила проверить свои наблюдения и чуть сдвинулась вместе со стулом, чтобы перекрыть щель, в которую Епихин протискивался к папке.
– О! – воскликнула Катя со всей непосредственностью, на которую только была способна. – Мастер наконец появился, весь день не было работничка...
– Он насчет фурнитуры ездил, – сказал Долгов.
– Епихин, не в службу, а в дружбу, подойди к нему, спроси, когда ожидать новый заказ, что говорить покупателю – звонит каждый день, все мозги прогрыз...
– Да он сейчас сам подойдет, – сказал Епихин и невольно, сам того не замечая, бросил опасливый взгляд на свою папку, не знал он и не догадывался, что Катя ведет за ним неустанное наблюдение, испытывает его и забавляется.
– Епихин! Ну когда женщина просит, – куражилась Катя. – Он сейчас выйдет во второй ангар, и до завтра... Ну, пожалуйста!
Епихин рванулся было к шкафу, но, увидев, что проход перегорожен, что Катя, закинув ногу на ногу, покуривает сигаретку и сдвинуть ее с места просто невозможно, покорно вышел. А когда вернулся, его папка лежала на столе, и Катя, поставив на нее свой локоток, продолжала спокойно покуривать, пуская дым к потолку, даже не к потолку, а к проему в кабинете, поскольку в нем не было потолка – ангар был не меньше десяти метров высотой.
Войдя и увидев папку на столе перед Катей, Епихин побледнел и не решился даже подойти и взять ее. Он решил, что в ней уже порылись и нашли подготовленные им бланки с подписями Долгова и Кати со штампами в верхнем левом углу и с печатями на долговской подписи. И хоть сунул он эти листочки в потайное отделение, хоть задернул «молнией», все его переживания выступили на лице красными пятнами.
Неестественной походкой Епихин подошел к столу и попытался взять папку, но Катя продолжала держать на ней свой локоток и, разговаривая с Долговым, как бы даже и не видела усилий Епихина.
– Катя, разреши я папку возьму, – сказал он вымученно.
– А, да, конечно! – отозвалась Катя и сама придвинула папку на край стола. – Что-то, я смотрю, ты из-за этой папки испереживался весь! – весело сказала она. – Что у тебя там?
– Деньги, – ответил Епихин мертвым голосом.
– Много?
– Очень.
– Деньги надо держать в банке, – продолжала веселиться Катя. – В стеклянной. Чтобы от влаги не испортились, от перемены температуры, чтобы грызуны не добрались...
– Я учту, Катя, – сказал Епихин, пятясь к двери. Вся его легкость исчезла, он вдруг почувствовал, что страшно устал за эти несколько минут, что ему просто необходимо уйти отсюда, исчезнуть и где-нибудь там, на платформе, выпить бутылку пива у высоких столиков, сваренных из труб, листового железа и выкрашенных отвратительной голубой краской застиранного оттенка – так могут выглядеть старушечьи рейтузы после десяти лет носки, стирки, сушки.
– Так что же тебе все-таки мастер сказал? – не унималась Катя, глядя на изможденного Епихина.
– Сказал – через неделю.
– Ну и прекрасно!
– Я, пожалуй, пойду, – сказал Епихин. – Как раз на мою электричку успеваю.
– Подбросить на машине? – спросил Долгов.
– Нет, спасибо... Пройдусь, мне не помешает. Так что откланиваюсь, если не возражаете.
– Возражаем?! – воскликнула Катя. – Приветствуем!
– До завтра, – единственные слова, на которые у Епихина хватило сил.
Катя и Долгов молча проводили его взглядами, пока он шел мимо станков к двери. Вышел, не оглянувшись, хотя всегда в таких случаях на прощание приветственно махал рукой.
Не махнул.
Не смог.
– Чего это он скис? – спросил Долгов. – Из-за папки? Я что-то не врубился...
– Да я поигралась маленько, – призналась Катя.
– У него в самом деле там что-то важное?
– Улики.
– Какие? В чем эти улики его уличают?
– Не знаю.
– Тогда о чем речь?
– В папке лежит нечто такое, чего нельзя видеть, нельзя даже догадываться о существовании этого... Ни тебе, ни мне. Если бы Епихин увидел папку на столе в раскрытом виде... Он бы потерял сознание.
– Что же там, в конце концов, может быть? – недоумевал Долгов, чувствуя, что Катя что-то знает или о чем-то догадывается.
– Нечто такое, что касается тебя и меня.
– А что это может быть?
– Заверяю тебя – не бюстгальтер, не трусики, не колготки с дыркой в интересном месте. Бумаги там. Документы.
– Какие?! – заорал Долгов, потеряв терпение. – Все наши документы на месте. Да и Епихин всегда к документам относился правильно.
– Я вот что скажу тебе, Коля... Он работник вроде ничего, вроде надежный... Но второе дно у него есть. В этом я совершенно уверена. Или же он что-то затевает, или что-то проворачивает.
– Мне пока не в чем его упрекнуть!
– Будет, Коля, в чем, будет, – заверила Катя.
Шагая по немчиновским улочкам к платформе электрички, снова и снова вспоминая все сказанное, услышанное, все, как он поступил и как поступали другие, Епихин приходил чуть ли не в ужас от картин, которые возникали в его взбудораженном сознании. Эта дурацкая папка, с которой он то выбегал из кабинетика, то вбегал, то совал ее куда-то подальше, то снова протискивался к ней... И он видел, и сейчас, кажется, все еще видел смеющийся взгляд Кати. Если Долгов его не замечал, то Катя все видела и все понимала.
– Придурок, – бормотал он вслух, – полный придурок!
Папка жгла ему руки – он больше всего боялся, раскрыв ее и отдернув «молнию», увидеть там пустой карман, боялся убедиться, что заготовленные им бланки для будущих приказов, договоренностей и договоров исчезли, и сейчас Катя с Долговым, весело смеясь, перебирают их и прикидывают, какие такие документы собирался создать Епихин, где он собирался их предъявить и чего собирался с их помощью добиться.
– Придурок, – бормотал он и не решался открыть папку и заглянуть в ее потайной карман.
И только придя на платформу и купив в магазинчике у красавицы Марины две бутылки пива, уединившись с этими бутылками у столика, сваренного из железных отходов в каких-то ремонтных мастерских, он наконец решился открыть папку, отдернуть «молнию» и заглянуть внутрь кармашка.
Бумаги были на месте.
Значит, папку без него не открывали.
Значит, Катя просто положила ее на стол, чтобы ему не пришлось снова протискиваться между стульями и столами.
Епихин не мог пить пиво из горлышка и всегда брал к бутылкам еще и пластмассовый стаканчик. И, глядя на проносящиеся мимо него электрички, потягивая пиво, он постепенно приходил в себя. Ничего, Валя, ничего, – говорил он себе. – Жизнь продолжается, жизнь продолжается, мать ее...
Уже и одна, и вторая, и третья электрички, постояв минуту у платформы, с визгом уносились в Москву, в Одинцово, в Можайск, а Епихин все стоял у железного столика и невидящим взглядом смотрел в пространство, наполненное закатным светом, резиновым хлопаньем дверей вагонов, визгом электричек, перестуком колес поездов дальнего следования. И перед ним неожиданно открылась истина, которая ускользала от него все это время – он сегодня сделал ошибку, он засветился и хотя не был разоблачен, но о его поведении уже можно говорить с недоумением и озадаченностью. И открылось Епихину – ошибки он будет совершать все чаще, он будет проговариваться, прокалываться и светиться, а люди, которые видят его каждый день, просто не смогут этого не замечать. И наступит время, наступит время, наступит время, когда его замысел, дерзкий и преступный откроется во всех подробностях.