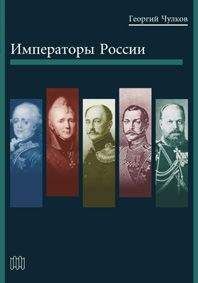— Сережа, правильно, но вы все-таки не кричите. Далее бумажки от ветряной тяги разлетаются, ну подробные технические детали я описывать не берусь.
— Почти наверняка так и было, Митя. У тебя все филеры наготове?
— Обеспечено полностью.
Мы уже подъезжаем.
Пристав предупредил нашу даму дожидаться визита и караулит у крыльца.
А особа непростая, я чувствую волненье и чувствую, что даже неспокоен мой видевший анаконд разных дядя.
Нас встречают очень спокойно — полуулыбкой и приглашеньем садиться.
Казанцев морщится, трогая тугой воротник мундира, и проходит мимо стола с дамой к дальнему окну.
— Душновато сегодня. Я позволю себе открыть?
Он делает это до того, как ему говорят «да» и не спеша возвращается, поглядывая в окна.
— А сад хорош!
— Могу вам предложить перейти отсюда в беседку.
— О, не беспокойтесь, мадам. Мы ненадолго, и с маленьким к вам предложением.
— К вашим услугам, генерал.
— Вы не хотели бы отозвать свое заявление и аннулировать обрывок того странного завещания.
— Вы шутите, генерал?
— Ни в коем случае, мадам.
Казанцев достиг противоположного окна и резко распахнул створки.
У меня по лицу сразу пробежал ветер, а на столе у дамы возник бумажный вихрь, какие-то листки полетели к окну и один там исчез.
— Что вы делаете, закройте немедленно!
— Пардон-пардон, — Казанцев закрыл окно. — А сделал я всего лишь то, что и вы какое-то время назад проделали, завладев таким вот приемом нужным началом завещания. Оно просто вылетело из-под пера генерала.
Не-ет, я очень поторопился, назвав даму конфетно-красивой — лицо сейчас без всякой улыбки, потемневшие глаза уперлись в глаза Казанцева, она считывала, казалось, что там есть...
Первый раз, и никогда после, увидел я как генерал отводит свой взгляд от противника.
— Позвольте мне, мадам, — примирительно начал дядя, — мы вычислили всё как было. Нужная половинка завещания потерялась на ветру, а новое-окончательное ваш патрон не успел нотариально оформить по причине смерти, в которой вы, возможно вполне, сударыня, я говорю — возможно вполне, неповинны. Но суть для нас совсем в другом.
— В чем она ваша суть? — голос прозвучал холодно и почти на октаву ниже.
Закруживший всё в комнате ветер заставил ее вскочить, теперь она снова села; спокойная, уже не глядя ни на кого.
— В вашем разоблачении, сударыня, — дядя произнес это тоном поздравления с именинами.
— В самом деле? — произнес тот же холодный голос, но добавленьем иронической нотки.
Дядя отчего-то даже обрадовался:
— А вот послушайте, как мы это сделаем. Сегодня я дам в газеты объявления, что нуждаюсь в специалисте-каллиграфе, способном воспроизводить почерки исторически известных людей, плату за строчку работы поставлю сверхщедрую. Всё невинно вполне и вполне законно — мало ли какая блажь вознадобилась мне-князю.
Моя заранье определенная задача была — наблюдать.
И тут что-то изменилось в лице нашей дамы, что... что... да, пропала та раньше полная в себе уверенность.
— Ну и объявление повесим в художественном училище, — дружелюбно продолжал дядя.
— Остальное — дело профессиональной техники, — буркнул Казанцев.
Он чуть подождал.
— Ну, будете продолжать настаивать на наследстве или закончим миром? — Хозяйка кабинета думала, ее мысли, мне показалось, были сейчас не здесь. — Хотя я с удовольствием отправил бы вас на каторгу.
Раздался вдруг смех, тявкающий какой-то, немного нечеловеческий.
— Всё у вас каторга на уме, ха. Дальнейшие разговоры, господа, только в официальной форме с моим адвокатом, или как он у вас называется — частным поверенным. Присылайте официальное уведомление. А сейчас прошу вон.
Мы подъезжали с Воронцова поля к Чистым прудам — не очень далеко от Мясницкой, где находились отменные чайная и кофейная. Туда и велели ехать.
Казанцев расстегнул воротник, расслабил галстук и наслаждался погодой.
Дядя был скован.
— Там точно всё под контролем?
— Да не волнуйся ты.
— Может ведь с кем угодно записку послать — с дворником, да хоть с приходящей молочницей.
— Андрей, все будут под наблюдением. А молодец она, — генерал неделикатно сплюнул через плечо на мостовую, — сука.
Тут я решил отчитаться:
— Но потерялась заметно, когда вы, дядя, сказали про объявления.
— Однако что-то решила, и уверенность снова вернулась к ней.
— Ну ясно, что эта сука решила!
— Думаешь, все-таки пойдет на живца?
— Не сомневаюсь.
— Защитить того каллиграфа вполне удастся?
— А почему, Андрей, я прежде всего должен думать о нем? — в голосе Казанцева послышалось раздражение. — Он что, не понимал, какой подделкою занимается? — но раздражение не понравилось ему самому: — Конечно, дал приказ о всех мерах предосторожности, он ведь и как свидетель по делу нам нужен.
Скоро свернули с Чистых прудов на Мясницкую, и ветерок в нашу сторону принес запах кофе; решили — тому так и быть.
Я волновался — а что если она никак не отреагирует, хотя... объявления точно появятся, она сама с утра прочтет их в газетах.
Дядя, хотя старается не выказывать, тоже нервничает, именно мы с ним завтра с утра будем ожидать в его особняка «почеркиста», именно так уже окрестили этого поддельщика нижней части завещания среди всех участников операции. Напротив и чуть сбоку от дядиного особняка будет прогуливаться «в гражданском» пристав, чтобы по условленному знаку подтвердить и официально оформить задержание.
Но всё это — если «почеркист» доберется до нас. Иначе — если до этой попытки его не убьют по заказу нашей распрекрасной знакомки.
Вот куда брошены все силы: проследить, кому отдан сигнал, куда именно бандитам передан, сесть им на хвост и при попытке... «Могут действовать на поражение, — сказал Казанцев, — сами бандиты нам не нужны, а вот «связной» — важнейший для показаний человек, и он не из тех, кто будет особенно упираться и брать на себя каторгу ради этой барыни».
Нам принесли кофе, и Дмитрий Петрович принялся пить его с таким удовольствием, словно первый раз в жизни.
— Скажи, Митя, если «почеркист» без особых сопротивлений даст признательные показания...
— Мы их оформим как явку с повинной.
— Да. И что ему будет?
— Ссылка года на три, в Тобольск куда-нибудь.
Выпив по чашечке, решили повторить.
А через полчаса разъехались.
Казанцев, как он выразился, в штаб по проведению операции.
Дядя с Великой княжной — что-то часто они — на какую-то выставку.
А я, испросив у генерала разрешения появляться, этак, раз в три часа в штабе за информацией, отправился домой — отдохнуть слегка и переодеться.
А как сел на извозчика, явилась правильная мысль заехать сначала к Насте, меблированные комнаты, где она проживала тут были неподалеку. И тут меня дернула мысль, заставившая крикнуть извозчику: «Гони быстрее!» А кто ее знает — нашу прекрасную дамочку — а вдруг она сделает не один ход, а два: два трупа. И если встать на ее позицию, тут уж «все концы в воду».
Ехать было минуты всего три, но по дороге мешали люди, другие извозчики, лоб мой покрылся испариной, господи, а мы как малые дети не спеша распивали кофе...
«Гони же!»
Я вбегаю в подъезд, спрашиваю какую-то женщину, а наверно, кричу — десятый номер?!
— Дома она.
Второй этаж... стучу в дверь, сразу дергаю ручку... нет, слава Богу, внутри кто-то идет.
— Сергей? Рада вас видеть. — Я прохожу внутрь, подозрительно всё осматриваю... — Что с вами? Будто за вами черти гонялись.
— Почти так и было. — Без приглашенья сажусь, кажется на ее только что место — передо мной развернутая книжка стихов. — У вас тут чай подают?
— Конечно. Я схожу сказать, чтобы принесли.
— Нет! Позвоните в колокольчик, или что тут у вас?
— Шнурок.
— Вот.
Теперь я успокоился, глаза воспринимают текст книги... и заставляют вздрогнуть.
Я к вам пишу случайно; право
Не знаю как и для чего,
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? — ничего!
Что помню вас? — но Боже правый,
Вы это знаете давно;
И вам, конечно, всё равно.
Обворожительные, мои любимые строки Лермонтова — начало поэмы «Валерик», с которой тоже связана судьба моей семьи. Отец не участвовал, он был в это время в другом отряде, а этот — почти трехтысячный — нарвался у реки Валерик на шеститысячный «зашитый» в крупную систему засад, отряд чеченцев. Бой был страшный, мы победили несмотря ни на что. У отца в том бою погибли два товарища, дружил он с ними еще со времен кадетского корпуса. Лермонтов там участвовал и отличился отвагой, «Валерик» — одно из лучших его произведений. И обворожительное начало этой поэмы; хотя если придираться к стилю... но совсем не хочется придираться.