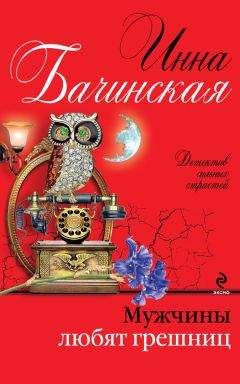– Привет, Кирш! – говорят звезды. – Как дела? Как жизнь?
– Хорошо, – отвечает Кирш звездам. – У меня все хорошо. Я жду!
– Мы знаем! Мы помним! Мы обязательно прилетим и заберем тебя. Но пока потерпи, Кирш… Нужно немного потерпеть, осталось совсем немного. Мы строим новый большой космический корабль…
– Ладно, на немного я согласен. Но, пожалуйста, не очень долго! Я хочу домой!
– Разве тебе плохо на Земле?
– Хорошо, но… я хочу домой!
– А друзья у тебя есть?
– Друзья? – Кирш задумался. Потом сказал: – Знаете, как трудно найти настоящего друга?
Все ничего, но Кирш тоскует по настоящему другу. Однажды у него появился друг – маленький котенок Рыжик, белый, с рыжими пятнами. Кирш встретил его на улице и привел к себе домой. Рыжик так уютно мурлыкал в долгие зимние ночи, устроившись рядом с Киршем в гнезде из старого свитера! Кирш рассказывал Рыжику про обитателей подвала – старую крысу Ворчунью, которая умеет петь и, если ее попросить хорошенько, может спеть колыбельную песенку, которую исполняла когда-то очень давно, сто лет назад, когда работала в цирке ученой крысой; про летучую мышь – ее зовут Бабочка, у нее острые когти и крылья как плащ-дождевик; про большую холодную жабу Ква-Ква, зеленую с желтым животом, которая все время спит, зарывшись в сырой песок в углу подвала.
Он рассказывал ему про звезды и космический корабль из далекой галактики, который потерпел аварию на орбите Земли. Рыжик ничего не знал про космические корабли, но внимательно слушал и мурлыкал. А Кирш рассказывал и рассказывал. И обоим было хорошо.
Потом Рыжика забрала женщина из третьей квартиры. Увидела его во дворе, позвала «кис-кис-кис», он и побежал. Она взяла его на руки и унесла к себе. Больше Кирш Рыжика не видел. Печально, конечно, но ничего не поделаешь, такова жизнь. Кирш успокаивает себя мыслью, что Рыжику хорошо у той женщины – у нее было такое доброе лицо! Она, конечно, покупает ему молоко и кошачью еду в коробочке…
Больше дружить в подвале не с кем. У крысы Ворчуньи плохой характер, встречая Кирша, она показывает зубы – передние резцы, острые и длинные, и неодобрительно дергает кончиком носа. Летучая мышь по имени Бабочка вдруг принимается ни с того ни с сего летать, кричит, машет крыльями, как жестянками, ударяется в стены подвала, никого не видит и не желает слушать. Наверное, ей кажется, что она бабочка, а вокруг не подвал, а прекрасный весенний луг. Ну а жаба Ква-Ква слишком холодная и спокойная, вечно спит. Как спящая царевна из сказки. Какой из нее друг?..
Удивленный, я отложил тетрадь и задумался. Что-то проклевывалось внутри сознания, какая-то мысль… Существо со звезд, непонятое, чужое, тоскующее. Другое. Не похожее на других. Без друзей. Может, она написала о себе? Может, это аллегория?
Я определенно сходил с ума…
…Я уснул на ее диване, не раздеваясь, лишь натянув на себя плед. Уснул как провалился, даже свет не выключил.
Проснулся я, когда кто-то тронул меня за плечо. В комнате витали легкие утренние сумерки и было по-прежнему холодно и сыро. Я открыл глаза, не сразу сообразив, где нахожусь, и сел. Рядом с диваном стоял давешний мальчик.
– Доброе утро, Артем Юрьевич! Я так и подумал, что вы вернетесь. Дай, думаю, забегу с утра. А вы тут! Я принес котлеты, мама сделала…
– Андрей… – пробормотал я, с трудом вспомнив, как его зовут. Голова была тяжелой, спина ныла.
– Я рассказал ей про вас, мама у меня добрая, она любила Алиску. Она знала, что мы собирались удрать. Понимаете, я… – Он замялся. – Я и учился не очень, и читал мало, учительница литературы однажды сказала: о чем тебе с Алисой говорить, она – жар-птица! А нам было о чем говорить, честное слово, мы могли на целый день уйти в лес или на реку, не на пляж, а там, где все заросло, жгли костер. Я рисовал, она читала вслух или рассказывала… понимаете, у меня уже ни с кем так не будет. Отец не любит, когда я трачу время впустую, он считает, что надо делать деньги, расширяться, вон, Андрюша подрастает… а я не хочу! Мне его жалко, как подумаю, что сыну сидеть в «Арсенале» всю жизнь, чуть не плачу, он такой славный, спокойный, улыбается, ничего еще не понимает, а за него уже все выбрали. Мама говорит, потерпи, сынок, мы что-то придумаем… как-нибудь оно будет. Мама всегда за меня, а отец считает, что она меня баловала и портила, а теперь и Андрюшу. Он пытался воспитать из меня мужика, а теперь вот из Андрюши тоже…
Я протянул ему тетрадь:
– Вот, возьми для Андрюши. Почитаешь ему перед сном.
– Что это?
– Это рассказ про Кирша, маленького человечка. Алиса написала.
– Я помню! – вырвалось у него. – Мы сидели в ивняке на той стороне реки, представляли, как мы поедем в город, где будем жить, куда устроимся на работу, и Алиса рассказывала про Кирша, как он живет в подвале… Я тогда рассмеялся и сказал, что мы тоже будем жить в подвале. Я думал, что она прочитала про Кирша, а она сочинила. Она была способная, и в газете ее печатали… – Он вздохнул. – Я вам принес картину, я Алису нарисовал, у меня их три, я отдам одну вам.
Он протянул мне рулон ватмана. Я развернул. Это был рисунок углем, черно-белый. Я не специалист, мне трудно судить о технических достоинствах рисунка, но это была Лиска. Быстрый птичий поворот головы, улыбка, волосы по плечам, бретелька купальника… Прекрасное остановившееся мгновение…
Он смотрел на меня своими наивными голубыми глазами, словно ожидал каких-то слов, которые прояснят и определят что-то в его жизни и, возможно, помогут вырваться из капкана, в котором он оказался, не имея ни сил, ни характера переломить судьбу. И я сказал, я не мог не сказать:
– Я дам тебе свой адрес, приезжай, привози свои картины, покажем знающим людям… кто знает!
– Спасибо! – вырвалось у него. – Я приеду, обязательно! Мы вместе приедем.
Я не понял, кого он имел в виду – то ли мать, которая его понимает, то ли сына Андрюшу, и кивнул.
Он уже стал мне нечужим, и я не мог его бросить.
Когда мы прощались, я сказал:
– Возьми себе Лискин дом…
Уже в машине, умиротворенный, с чувством расслабленности и правильности своего поступка, я подумал, что этот мальчик достался мне в наследство, он – моя связь с Лиской, единственная, упавшая на меня неожиданно и вдруг, но что такое случайность, как не непознанная необходимость? Значит, кому-то там нужно было свести нас…
…Он действительно приехал ко мне, один, и привез свои рисунки. Я отвел его к Виталию Щанскому, нашему местному корифею, и тот, пожевав губами и походив вокруг да около, согласился, что в рисунках деревенского мазилы есть нечто, о чем давно забыли в меркантильном городе: простота, искренность и честность… умения, правда, маловато.
– Но это поправимо, – сказал Виталий. – Поправимо, это я тебе обещаю. Переезжай в город, хватай свой шанс за… – Тут он запустил по своему обыкновению неприличное словцо. – Посмотрим.
Андрей так и не переехал в город, хотя, окрыленный словами «настоящего» художника, обещал подумать. Не всем дано закрыть за собой дверь и уйти, не оглянувшись.
Картина его висит в моем кабинете над письменным столом. Лиска, смеющаяся, счастливая, посреди яркого солнечного дня, смотрит на меня, и в глазах ее радость и тайна…
– Понимаешь, – сказал я Ренате утром, – в письме написано о том, чего никто не знал. Только мы двое. Понимаешь?
Она покивала. Рената была странно задумчива.
– Знаешь… а что, если поговорить с экстрасенсом?
– С Колдуном?
– Ну да, с Ильей Заубером.
– О чем?
– Я не успела тебе рассказать, на последнем сеансе он вызывал души умерших… Только не смейся! – Мне было не до смеха! – В этом что-то есть. Я понимаю, ты его не любишь…
Мягко сказано! Я не рассказал Ренате о визите к Колдуну, не хотел выглядеть глупо.
– Но он многое может, я сама не верила… Он вызвал мою сестру, она умерла еще в детстве, ей было десять, а мне тринадцать. Она утонула, мать чуть не прибила меня – мы пошли на речку вдвоем, я до сих не понимаю, как это случилось. Мне и сейчас снится, как я бегаю по берегу, зову, а ее нет! Я помню свой ужас! Мама до самого конца не простила меня, мы почти не поддерживали отношений, я общалась больше с маминой сестрой, тетей Ларисой. Клянусь, я слышала голос Верочки, она звала меня издалека, потом засмеялась, а у меня мороз по коже, и говорит: «Натка, а я твое платье надевала!» Никто не называл меня Наткой, только она…
– Зачем тебе?..
– Спрошу, что он об этом думает. И покажу письмо!
– Что он может об этом знать… – выдавливаю я из себя и ловлю внимательный взгляд Ренаты.
Я не хочу, чтобы она говорила с Колдуном о письме, я должен встретиться с ним сам. Вспоминаю наше единственное свидание и сжимаю кулаки. Чувство унижения, собственного ничтожества и малости до сих пор сидят внутри, никуда не делось и не выветрилось временем, но логика человека, привыкшего иметь дело с цифрами, протестует – зачем это ему? Чего он хочет, чего добивается? Я чувствую себя перевернутым жуком, в которого тычут палочкой, а он смешно и отчаянно барахтается…