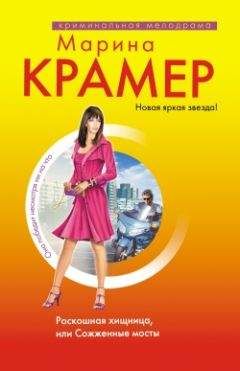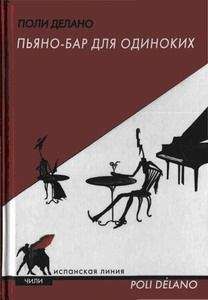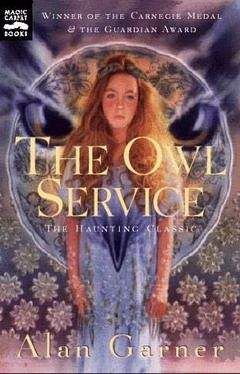– Ну, это мы посмотрим, – подал голос оскорбленный таким недоверием к его искусству Вилли.
– А хоть засмотрись, быдло морговское! – огрызнулся окончательно уже осмелевший от предчувствия скорой развязки охранник.
– Так, все, мне надоело! – Марина открыла дверку старого «Хаммера» и села внутрь. – Я даю тебе пять минут подумать – хочешь ты по-хорошему или нет.
– Можно подумать, ты кого-то оставила в живых! – скривился Кот и тут же получил ногой в лицо: Хохол никогда и никому не спускал подобного обращения на «ты» к Марине.
– Время пошло, – невозмутимо сообщила Коваль, доставая сигарету.
Хохол тоже закурил, отойдя к машине, а Вилли, не торопясь, распаковывал свое любимое «орудие труда» и улыбался какой-то детской улыбкой. И от этого несоответствия даже у Марины вдруг побежали мурашки – не дай Бог оказаться в руках у этого хладнокровного живодера с младенчески улыбающимся лицом... Она передернула плечами и поморщилась, стараясь отогнать от себя дурные мысли, однако Вилли маячил прямо перед открытой дверкой машины, выслуживался, как мог. Хохол заметил изменившееся выражение Марининого лица, наклонился к ней, но она только дернула головой.
Кот по-прежнему сидел на полу и вытирал кровь с разбитых губ.
– Так что? – выбросив окурок, поинтересовалась Коваль. – Надумал?
Кот посмотрел на нее и отрицательно покачал головой, не произнеся ни слова. Хохол презрительно сплюнул, щелчком отправил окурок в угол гаража:
– Слушай, Котяра, давай без понтов! Ведь все равно расколем, ты ж нас знаешь.
– Мне по барабану, – скривился тот, и из губы снова засочилась кровь. Он вытер ее ладонью, потрогал больное место пальцем. – Что мне с того, что я расскажу? Один хрен – завалите. А так хоть совесть мучить не будет.
– Совесть?! – взвился Хохол, и его зычный голос раскатом прошелся по гаражу, словно ударяясь в стены и потолок. – Совесть?! А где она была, твоя совесть, когда ты с топором шел на раненую женщину, а? Где она была, эта совесть, когда ты хотел ребенка сиротой оставить?
– Оставь гниль эту, Жека, – попросил Кот, не отводя глаз. – Заговорил красиво, поэт прямо. Тут дело не в бабе и не в пацане...
– Да?! А в чем?! Бабло, да, братан? Оно, родимое?
– А что ж ты думаешь, мне не хотелось жить сладко? Думаешь, только вам позволено иметь все, раз вы над навозной кучей возвысились, а такие, как я, должны всю жизнь вам в рот смотреть и делать то, что вам в башку взбредет? Ни хрена, братан! Мы тоже люди! – Кот сплюнул кровь прямо под ноги стоящему рядом с ним Вилли, и тот едва успел убрать белоснежную кроссовку.
– Слышь, ты, совестливый! Жить, говоришь, сладко хотел? А что ж тебе не жилось-то здесь, а? Обижал кто? – Хохол присел на корточки и заглянул Коту в глаза. – Ведь и деньги имел, и работу непыльную. А что в бригаду не брали – так и радовался бы, что ни в чем не замаран, как мы, по самое «не балуйся»!
– Не учи меня, Хохол, я и так ученый...
– Да ни хрена ты не ученый, Котяра, коль не понял ничего. Вот сидим мы тут сейчас вчетвером, трем терки какие-то непонятные... А ведь все так просто, что и обсуждать нечего: ты ж нас кинул. И не просто кинул – сдал Ашоту, как пивную тару в ларек, чтобы опохмелиться с утра. И еще героя из себя гнешь. – Хохол поднялся, отряхнул джинсы и посмотрел на него уже сверху. – Последний раз предлагаю – скажи, что замутили, и умрешь тихо, без мучений. И похороним по-человечески, а не в чужую могилу зароем, как падаль какую.
Кот ответил презрительным взглядом:
– Я все сказал, Жека, сдавать никого не буду.
– Ну, гляди – это ты сам сказал. Мы по-людски хотели.
– По-людски?! Это – по-людски?!
– А как? – спросила молчавшая до сих пор Марина. – Скажи, что ты сделал бы на моем месте? Вот при этом раскладе – что ты сделал бы с тем, кто тебя продал?
Кот искоса глянул на сидящую в джипе женщину, но она не отвела взгляда, даже не моргнула ни разу, только зрачки синих глаз чуть расширились. Где-то внутри у Марины зашевелилось даже некое подобие уважения к бывшему охраннику: как ни крути, а сдавать тех, на кого сейчас работал, он подобру явно не собирался, хотя и понимал, что это могло бы слегка облегчить его смерть. Но мимолетное чувство быстро покинуло Коваль, и она процедила, по-прежнему в упор глядя на Кота:
– Молчишь? Так я тебе скажу – за предательство разговор-то у всех одинаковый. Все могу простить, но не это. Ведь ты, живя в моем доме, меня же и убрать решил.
Она выпрыгнула из машины и пошла к воротам гаража, на ходу бросив:
– Кончайте с ним. Разговоры бесполезны.
– Иди домой, мы сами, – Хохол открыл ей дверку в воротах, выпуская на улицу. – Не жди меня, я тут с Вилли, потом вывезем...
– Да...
Дверь гаража захлопнулась за Мариной, отрезая от нее уже вычеркнутого из списка живых Кота. Покурив в беседке, Коваль убедилась, что из гаража не доносится ни звука, и пошла в дом. Больше всего ей хотелось сейчас встать под душ и смыть с себя происшедшее, но повязка на плече не позволила исполнить мечту. Пришлось лечь так, и всю ночь Марина мучилась от почти физического ощущения грязи, в которой она словно выкупалась с головой.
«Надо же, как с возрастом становится тяжело в этом вариться, – думала она, ворочаясь в постели с боку на бок. – Чем старше становишься, тем противнее...»
Уснуть никак не удавалось, и Марина прибегла к испытанному средству: встала и пошла в комнату Мышки. Та тоже не спала, сидела на кровати, обняв руками колени, и сосредоточенно смотрела в стену. На звук открывшейся двери она даже не повернулась, не сделала никакого движения, и Коваль слегка испугалась:
– Маш... что с тобой, а? – тронув подругу за плечо, спросила она. – Болит что-то, Маш? Может, врачу позвонить?
Мышка встрепенулась, потрясла головой, стряхивая оцепенение:
– Нет-нет, ничего... все в порядке, просто задумалась. А ты чего бродишь? Рука болит?
– Задумалась она в третьем часу ночи! – не отвечая на вопрос, усмехнулась Коваль, устраиваясь на кровати, поджав ноги. – Самое время задумываться, ага.
– Ты не ответила. – Мышка протянула руку и дотронулась до холодных пальцев Марины. – Случилось что-то?
– Нет, Маша, не случилось, – с тяжелым вздохом проговорила Коваль, понимая, что не может переложить груз своих проблем на плечи подруги, не имеет права. – Просто бессонница какая-то...
Мышка укоризненно покачала головой и придвинулась ближе, обняла Марину за плечи, стараясь не тревожить висящую в перевязи руку:
– Я же тебя знаю. Если ничего – зачем ты явилась ко мне в комнату в третьем часу, когда знаешь, что я должна спать? Нет, если не хочешь говорить, не надо, я же не настаиваю. Просто – вдруг тебе станет легче?
Не говоря ни слова, Коваль положила голову на колени подруги и закрыла глаза. Мышка начала тихонько гладить ее по волосам и шептать что-то. Марина не вслушивалась сперва, а потом поняла, что Маша читает стихи. Это было у них еще одной общей точкой – любовь к японской поэзии, но сейчас Мышка бормотала что-то явно русское.
– Машуль, а вслух и погромче? Пожалуйста...
Мышка вздохнула, набрала в грудь воздуха, как будто стояла на высоком обрыве и собиралась прыгнуть в воду, снова резко выдохнула и начала:
– Я был жесток
С самим собой.
Я видел цель и рвался в бой,
Уверенный – никто другой не выдержит такого ритма.
И, погребенный с головой
Осточертевшею войной,
Не зная сладости иной, я повторял почти молитвой,
Что я смогу,
Я все смогу,
Покуда сам я в это верю,
А слабость, будто хлам, за дверью
Оставлю, спрячу, сберегу...[1]
Неожиданно она замолчала, словно запнулась, а потом проговорила тоскливым шепотом:
– Маринка, а ведь это о тебе. Ты слышишь, чувствуешь? Человек, написавший это, никогда тебя не знал – а смотри, как четко понял, да?
Коваль перевернулась на спину и посмотрела в лицо подруги снизу вверх:
– Чудная ты, Машка... Да это хоть о ком можно сказать.
– Нет, ты просто послушай! – настаивала Мышка. – «А слабость, будто хлам, за дверью оставлю, спрячу, сберегу...» – ну, разве ты так не делаешь? Разве не прячешь свою слабость от всех, даже от Женьки? От него – так даже в первую очередь!
Марина чуть грустно улыбнулась, подняла руку и потрепала Мышку по щеке:
– Не выдумывай. Ничего я не прячу – у меня просто нет права на эту самую слабость, я уничтожила ее уже давно. Ты ведь прекрасно знаешь, Машуля, что никогда бы не усидеть мне на своем месте, если бы хоть кто-то во мне усомнился. А Женька... что Женька... Он просто влюбленный мужик, который вообще не видит никаких изъянов. Знаешь, вот это мне всегда было непонятно – как можно настолько слепо любить кого-то?
– А ты? – вдруг уличила Мышка. – Ты сама? И Егор? Разве ты не любила его слепо и безоглядно, а? Я ведь так всегда вам завидовала, ты не представляешь... Как он смотрел на тебя, как говорил о тебе, если тебя не было рядом...