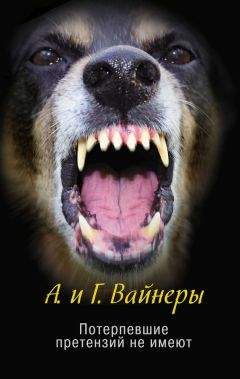Мы долго молчали, пока я не спросил его:
– Сбитая собака – это Плахотин?
– Не важно, – махнул он рукой, и мне показалось, что этот сильный парень готов заплакать. Он посидел, отвернувшись от меня к стене, потом глухо попросил: – Отправьте меня, пожалуйста, в камеру…
– Хорошо, – сказал я. – Завтра я разрешаю вам, Степанов, свидание с семьей. Поговорите с родителями, с братом посоветуйтесь, он у вас парень неглупый. Подумайте…
Я приехал в ресторан «Центральный» около семи часов. Народу еще было не много. Оркестранты рассаживались на своем музыкальном подиуме, брали аккорды на ревучих электроинструментах, и эти дребезжащие долгие звуки медленно, протяжно замирали в полупустом зале. Было бы совсем тихо, если бы не взрывы веселого разгула сильно подвыпившей компании в дальнем углу. Оттуда раздавались всплески хмельного хохота и дурашливо-радостные вскрики.
Я постоял минуту в дверях и увидел несущуюся с подносом официантку Марину. Она направлялась к компании в углу, и застолье встретило новую порцию бутылок на подносе счастливым ревом. Я дождался, пока она разгрузилась, и перехватил ее на обратном пути к буфету:
– Здравствуйте, Марина! Я к вам в гости…
Она мгновение присматривалась ко мне, потом, видимо, вспомнила нелепого страхового агента в палате у своего прекрасного Сурика Егиазарова и засмеялась:
– Добро пожаловать! Вон мой стол, садитесь. Что будете пить, кушать?
– Чашку кофе.
– Одну чашку кофе?
– Можно две. Если так полагается…
– Да как хотите. Просто я удивилась – из-за чашки кофе идти в ресторан?
– А я не из-за кофе. Я из-за вас. Вы мне понравились… – сказал я совершенно серьезно и удобно уселся в кресле.
Она кокетливо погрозила мне пальцем:
– А что скажет ваша жена?
– Ничего она не скажет, она не узнает. Она в командировке…
– Ох уж эти мужчины! – покачала головой Марина и отправилась за кофе.
Один из гуляющих в углу, раскрасневшийся пухломордый хомяк, вскочил из-за стола и пронзительным козлетоном запел лирический романс:
– «Денежки! Как я люблю вас, мои денежки…»
И сразу же, похоронив под звуковым обвалом его искренне взволнованный гимн, грянул оркестр. Джаз. Инструментальный ансамбль или как там они сейчас называются. Пришла Марина с моим сиротским кофе и спросила любезно:
– Больше ничего заказывать не будете?
– Нет, заказывать я не буду. Я буду говорить о своих чувствах к вам…
– Тогда нам надо подыскать другое время и другое место для этого. Завтра я не работаю… – усмехнулась Марина.
– Видите ли, Марина, у нас ограниченный выбор, – перебил я ее. – Мы можем говорить только в двух местах: у вас на работе или у меня на работе. Я решил, что вам будет приятней и спокойней на вашей площадке. Вряд ли разговор в прокуратуре больше способствует искренности…
– А что такое? – испугалась она.
– Вы присядьте, а то мне неудобно говорить, вы же дама…
– Нам не полагается садиться за столики, – подтянула, усушила она губы.
– Вы напрасно беспокоитесь: ваше начальство, увидев вас за моим столиком, будет очень довольно. Садитесь, садитесь…
Она неловко села, в движениях ее не было той грациозной гибкости молодого животного, с которым она две минуты назад бежала через зал.
– Марина, вы не задумывались, почему я вас ни разу не пригласил за это время?
– А зачем вам меня приглашать? Нечего мне у вас делать!
– Может быть, – хмыкнул я. – Но я отношусь к той категории неотразимых мужчин, которым не может отказать в свидании ни одна дама. Наверное, потому, что я приглашаю их повестками. И решаю сам: есть им что делать у меня или нечего. Вот как раз вам – есть…
– Чего же тогда не вызвали?
– А то, что я вам уже сказал: вы мне понравились. И если бы я вас вызвал к себе, у вас сразу же начались бы крупные неприятности…
– Какие еще неприятности? – сердито спросила она.
– Ну, я не знаю, можно считать неприятностью привлечение к уголовной ответственности? Или это пустяки? Мелочи жизни, так сказать?
– Меня? К уголовной ответственности? – от души поразилась она.
– Да, вас. – Я прихлебнул кофе и утвердительно кивнул: – Как это ни смешно, вас одну. Не считая Степанова, который сидит в тюрьме.
– Почему?
– Потому что ваш любимый Сурик, по прозвищу Честность, тот самый, у которого правдивость – ремесло, и остальные его дружки не только легкомысленные, но и жестокие молодые люди. И они вас поставили в довольно опасное положение.
– Это чем же?
– Они научили вас сказать, будто вас не было на месте происшествия, на автостоянке, где произошла драка…
Она сделала протестующее движение, хотя в глазах ее уже плыла дымка страха. И я не дал ей говорить.
– Подождите, подождите, Марина, не перебивайте меня! Дослушайте, не говорите непоправимого, сохраните себе пути к отступлению.
– Но я ничего не знаю… – вяло проблеяла Марина.
– Вот этого они и добивались, они боялись, что вы, не улавливая некоторых тонкостей, наболтаете мне лишнего. А так – не было вас на месте, и говорить не о чем. Но вы там были, и вас там видели.
– М-меня видели?
– Конечно! Поэтому, если я вас завтра вызову в прокуратуру и вы мне хоть полсловом заикнетесь о том, что вас там не было, я сразу же вынесу постановление о привлечении вас к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Вам понятно? Не Сурика, не Карманова, не Винокурова, а именно вас! Ясно?
– Да что вы все хотите от меня? – взмолилась Марина, которая сейчас уже не была высоко парящей летчицей, а стала родной сестрой всех перепуганных и несчастных девиц на белом свете.
– Мне от вас ничего не надо. Я хочу только, чтобы вы мне ответили на один вопрос, имеющий к этой истории достаточно косвенное отношение. И если вы мне надумаете солгать, то завтра же мы продолжим этот разговор у меня…
– Так я же ничего не знаю… – беспомощно развела Марина руками. – Я с удовольствием, если могу…
– Можете, можете! Объясните мне, за что ваши дружки били шофера Плахотина. Помните, вы еще сами сказали: накидали ему банок?
– Честное слово, я подробностей не знаю! – Она прижала руки к своей обильной груди. – Честное слово! Я краем уха слышала, что он не привез какое-то мясо или не туда привез… А может, долг за мясо не вернул, что ли… И больше я ничего не знаю! Честное слово!.. Чем хотите поклянусь…
– Да не клянитесь вы ничем, я вам верю. – Допил остаток кофе, поставил чашку и ушел.
* * *Уколова я встретил у подъезда прокуратуры.
– Я вас с обеда дожидаюсь, – сказал он.
– Значит, ценную информацию принес. Иначе ты, человек занятой, не стал бы на меня, пустохода, дорогое время тратить…
– Это мы еще посмотрим, насколько она ценная, – сделав мне снисхождение, улыбнулся Уколов. – В ОБХСС предлагают завтра провести операцию… У них есть сведения, правда, непроверенные, что мясо воруют с базы…
– Хорошо, что не прямо с пастбища, – заметил я.
– С пастбища не украдешь, там счет по головам, – отмел мой незатейливый юмор Уколов. – Наших клиентов нужно брать только с поличным, потому что они во время кольцевого завоза мясо везут по нормальным, правильным документам. Но всем законным получателям недогружают по сто – двести килограммов и сразу же сбрасывают лишек на точках общепита…
– Понимаю, – кивнул я. – Интересно, к Ахмету тоже повезут? Меня не побоятся?
– А чего им вас бояться? – удивился Уколов. – Они же потерпевшие…
– Ну, все-таки… Должны какую-нибудь опаску иметь?
– Да что вы, Борис Васильевич, они бояться отвыкли, считают, что все «схвачено»! А монета каждый день нужна, так что повезут, не сомневайтесь… Кстати, в ОБХСС почти уверены, что повезет «левое» мясо Плахотин.
– Если повезет – это логично, он ведь с винокуровской компанией не рассчитался, долг за ним. Что нам с тобой делать?
– Ждать до завтра. Как только Плахотин загрузит на продбазе грузовик, ребята нам звонят и мы выезжаем…
– Я разрешил вам вчера свидание с сыном Александром, вы у него были? – спросил я.
Отец молча кивнул, а мать торопливо сказала:
– Да, спасибо вам большое, больше часа с Сашенькой видались…
Мы сидели в большой комнате их крепкого просторного дома. Когда я вошел, Степанова пригласила:
– Пройдемте в зало…
«Зало» было обставлено современной полированной мебелью, не имеющей индивидуальных примет, никогда нельзя по ней определить, живет здесь доцент или колхозник. Разговор не клеился – отец каменно молчал, а мать, подвижная моложавая женщина, сетовала, плакала, жаловалась на неукротимые характеры сыновей.
– Нрав у Сашки трудный, – говорила она. – Он ведь каждой бочке затычка, а так жить с людьми нельзя. Не любят они, когда им в нос тычут… И с Вадиком сладу нет… Мы ведь с отцом всю жизнь горбили, для них добро наживали, а Вадик на каждое слово – «мещанство», «пошлость»… Третьего дня сказал мне: «У вас сознание мелкобуржуазное»! Надо же, а?..