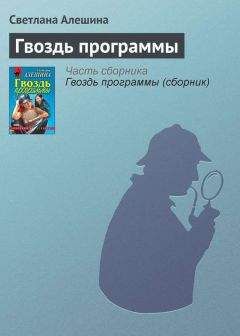— Господи, да огради же нас от этой ужасной твари!
Темный мир завертелся и лопнул, разрываясь на мелкие разноцветные шары.
Она проснулась оттого, что Виктор тряс ее за плечо.
— Лиза, что с тобой? Опять?
Она бессмысленно таращилась в темноту, и, когда поняла, что отныне даже в снах Димка будет приходить только вместе с тарантулом, унесшим его, она заплакала.
Не было в этих слезах облегчения, потому что сердце ее пожирала жажда мести. Где-то под этим жарким солнцем и голубым небом, в мире, где для ее Димки больше нет места, продолжает жить виновник его смерти. Виновник ее мук. Виновник… Он пьет вино, веселится, смеется — а Димкино хрупкое тельце в этот момент подвергается могильному тлению…
Она могла бы справиться с болью, уничтожающей ее. Но с этой яростью, которая не имела выхода, — о, с этим Лизе было не совладать! Не помогали ни увещевания, ни молитвы, ни самовнушение.
Ясно и четко она видела огромного, мохнатого, ядовитого тарантула, уносящего от нее в своих жадных лапах драгоценное тельце ее маленького сына.
Я проснулась от легкого ветерка, коснувшегося моей щеки. День еще не наступил окончательно, в комнате господствовал полумрак. Потянувшись, я с удивлением обнаружила, что спать мне совсем не хочется, напротив — весь мой организм наполнился энергией, а я ощущала небывалый интерес к жизни.
Вскочив, я вылетела на кухню и поставила чайник. Подпевая незатейливой мелодии, льющейся из приемника, умылась и посмотрела на часы.
Была половина шестого утра. На улицах еще царила тишина, утренний воздух был свеж, а поэтому я охотно подставила свое лицо первым лучам солнца.
— Ну, здравствуй, солнышко, — поздоровалась я с ним. — Ты уж сегодня не пеки нещадно мою бедную голову…
— Неужели моя дочь на кухне появилась, — услышала я за спиной голос мамы. — Что заставило мою драгоценную девочку подняться в такую рань?
— Жажда жизни, ма, — улыбнулась я. — Удивительно, не правда ли?
— Да уж, — согласилась она. — Я как-то привыкла к тому, что на тебя жажда жизни нападает не раньше одиннадцати.
— Так я же сегодня иду на работу!
— Господи, Саша, да разве это работа? Ты бы выбрала что-нибудь более для себя подходящее, — продолжила мама вчерашний спор. — Подумай сама — какой из тебя детектив? Этот Лариков просто шарлатан какой-то! Я бы поняла еще — секретаршей. Но — детективом! Тоже мне, Майка Хаммера нашел!
— Я очень скромно и ненавязчиво буду послеживать за изменницами и изменниками. Так что не беспокойся!
— Саша, а вот это безнравственно! — сердито высказалась мама. — Что это за работа — подглядывать? Ты что, филерша?
— Мама, за это платят деньги! А изменять, между прочим, как раз безнравственность и есть! Сама мне это внушала.
— Не нам с тобой судить. Это я тебе тоже внушала!
— Ма, я и не собираюсь устраивать суды с присяжными! Но — кушать-то нам с тобой хочется? Поэтому давай не будем подвергать критике мою новую работу!
Она рассеянно кивнула. Спорить со мной было бесполезно — это она поняла уже давно, поскольку упрямство было моей отличительной чертой. Как и чувство противоречия.
Может быть, поэтому я и люблю Вийона, чьи стихи сотканы из противоречий?
* * *
Телефон надрывался, как больной в припадке истерики.
Пенс посмотрел на часы.
Какой идиот мог звонить в такое время?
«Не обманывай себя, Сереженька, — приторно ласково прощебетал внутри его отвратительный голос опасности. — Сам знаешь, кто это».
Он сел на кровати, протянув руку к трубке, и тут же отдернул ее. Укус бывает смертельным, Пенс. Может быть, сделать вид, что тебя дома нет?
Но он знал — это ни к чему не приведет. Они будут звонить все время, пока его не достанут. Они знают, что он здесь, ему некуда деться.
«Ты в мышеловке, мой птенчик, ты в силках, умело расставленных чьей-то недоброй рукой…»
Если бы Пенс мог заткнуть этот голос внутри его, обдающий холодом страха, он бы так и сделал.
Но…
Жизнь надо принимать такой, какая она есть. Даже если она тебе не очень нравится в ее теперешнем обличье.
Сколько раз Пенс думал, что ему поможет самоубийство. Просто возьми в руки лезвие, малыш, а? Сам увидишь, как вместе с кровью уходят твои проблемы!
Но решиться на это не было сил. Он оставлял это на крайний случай. Если не хватит денег, вырученных от продажи «Судзуки», тогда конечно. Тогда он это сделает, но не сейчас.
Он собрался с силами, судорожно вздохнул, поднял трубку и тихо произнес:
— Я слушаю.
— Надо же, он нас слушает!
Голос был омерзительным, а то, что абонент считал смехом, более напоминало Пенсу карканье ворон над его могилой.
— Как с выплатой долга, дружок? Разве ты не знаешь, что счетчик включен?
— Я его еще не видел, он пропал!
— Меня уже не интересует Толстый, дружок, — ехидно пропел голос в трубке. — Толстый почти труп, а вот ты… Последний срок — завтра. Не будет денег — не будет твоей квартиры.
Трубку повесили. Пенс закрыл глаза. Ему хотелось закричать. На пороге возникла мать и обеспокоенно спросила:
— Сережа, что случилось? Кто звонил в такую рань?
Пенс сглотнул комок, появившийся в горле, и пробормотал:
— Ошиблись номером, мама. Всего лишь ошиблись номером…
* * *
Лариков встретил меня у входа в дом. Он стоял и ежеминутно посматривал на часы, что говорило о его крайнем нетерпении.
— Простите, что я опоздала, — подошла я к нему.
Он взглянул на меня и улыбнулся. Улыбка у него была мальчишеская.
— Что вы, Саша! Просто я спешу, а ключ вам вчера передать забыл.
Он протянул мне ключ и уже развернулся, чтобы уйти, но я остановила его вопросом:
— А что мне делать?
— Сегодня? — удивился он, как будто, по его соображениям, сегодня все дела были неуместны. — Ну, отвечайте на звонки. Придумайте что-нибудь, пока я не вернусь, ладно?
С этими словами он умчался вдоль по улице с быстротой болида.
— Да уж… — пробормотала я. — Ничего себе работа — придумай что-нибудь…
Я покачала головой и поднялась на третий этаж. Открыв дверь, я осмотрелась. А ничего и не надо придумывать вам, Александра Сергеевна, весело подумала я. Тут уборки на целый день.
Засучив рукава и найдя у него тряпку и старую, облезлую швабру, я принялась за эти авгиевы конюшни.
По местной радиостанции передавали новости, а я вытирала пыль, разбирала завалы из бумаг, созданные талантливой рукой Ларчика, и думала о том, сколько же надо было потратить усилий для создания такой свалки.
* * *
Каждое утро превращалось для Лидии Владимировны в пытку. Она просыпалась, и сон, ее спасительный сон, приносящий забвение, уходил, оставляя ее один на один с бессмысленным и страшным дневным одиночеством.
Первое время Лидию Владимировну не оставляла надежда, что ее муж вернется. Произошла ошибка, говорила она себе. Просто маленькое недоразумение, не более. Сейчас дверь откроется — и он появится на пороге.
Но со временем это ожидание стало болезненным, разрушающим ее куда более, чем скорбь.
Однажды она проснулась так же, как теперь, и с удивлением обнаружила, что боли больше нет. Она ушла, ушла вместе с мужем, оставив после себя только шрам на сердце. Вместо боли в ее душу вошли ярость и страстное желание отомстить тем, кто так немилосердно разрушил ее жизнь, превратив существование в сплошное чувство вины за тот день, когда ее муж лежал, как брошенный щенок, один. А она, ничего не подозревая, покупала себе платье. Странно, тогда ей безумно понравилось черное платье, и теперь она не снимала его — и поклялась не снимать до того момента, пока виновник не будет повержен точно так же, как он поверг в прах всю ее жизнь.
Питаясь чувством мести, Лидия Владимировна перестала плакать о муже. Потом она позволит себе эту роскошь, когда увидит, как кровь вытекает вместе с жизнью того существа, которое… Нет, не надо об этом пока.
Она еще не знала, как она это сделает. Однажды она попросила своего знакомого, бывшего работника милиции, раздобыть для нее оружие. Он посмотрел на нее и спросил:
— Лида, зачем?
— Чтобы спокойно спать по ночам, — передернула она плечами, радуясь, что в этих словах есть правда.
Когда она сможет отомстить, сон вернется к ней. Спокойный сон. Где ей перестанет сниться Тарантул, уносящий жизнь из тела ее мужа.
А пока она ждала. Терпеливо ждала, зажигая свечу перед фотографией, на которой еще молодой и грустный Игорь смотрел на нее, словно прося оставить его убийцу в покое.
«Тебе не принесет это облегчения», — как бы говорил его взгляд.
— Нет, милый, — грустно улыбалась Лидия Владимировна. — Я не смогу жить, пока его жизнь преисполнена животной радости. Я не смогу жить, пока он не наказан.