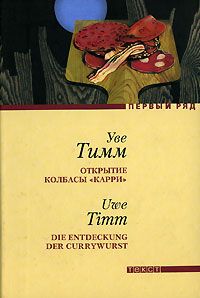– Обязательно, – пообещал Левушка.
Было немного обидно за то, как бесцеремонно его выставили за дверь, и за недоверие, и за то, что ясно дали понять, чтобы не лез в чужие тайны. А он и не будет, ну, быть может, немного… просто, чтобы найти урода, напавшего на Любашу.
На улице ярко и жарко светило солнце, высвечивая серые стены здания иллюзией белизны, пыльно-бензиновый воздух окутывал жаром, и хотелось побыстрее убраться из бетонно-цивилизованного рая. Левушка постоял еще немного, просто чтобы уход не так сильно походил на побег, и зашагал по выложенной плиткой дорожке.
Дед объявился ближе к полудню, мрачно-раздраженный, упрятанный в панцирь делового костюма, отгородившийся забралом солнцезащитных очков… и даже трость в руке походила на меч. Ну или шпагу.
– Зайди, – сказал он мне в ответ на приветствие.
Похоже, игры закончились, ни тени нежности или хотя бы вежливости, последнее особенно обидно. Ну, да мои обиды – мои личные проблемы.
В кабинете непривычно светло, распахнутое окно впускает солнце и свежий воздух, тягучий запах вишни, и томное дыхание скорого дождя.
– Садись. – Иван Степанович указал на кресло. – Рассказывай давай.
– О чем?
– Обо всем. Ты ж жила в доме, видела… наблюдала, наверное, не могла не наблюдать.
А у него руки дрожат, почти незаметно, но все-таки… и старый, совсем уже старый. Странно, что Бехтерины поверили его заявлению о грядущей свадьбе. Я бы не поверила… сквозь дымчатое стекло очков не видно глаз, но взгляд я ощущаю кожей. В нем усталость, бесконечное терпение и немного удивления.
Достав из ящика стола два бокала и плоскую флягу, Иван Степанович разлил ее содержимое по бокалам. Мне на два пальца, себе чуть больше.
– Ты не молчи, Сашка, ты говори давай. Или думаешь, я тебя просто так одну оставил? При мне таятся, а стоит уехать, и все, развал… друг друга не стесняются, привыкли не замечать, кто и чем дышит. И я привык, что с виду все прилично, а внутри… дерьмо.
– Не люблю доносить. – Мне было жаль Деда, и в то же время жалость эта имела горький привкус злорадства. Почему? Не знаю.
Дед раздраженно подался вперед, задел локтем трость, та, упав, покатилась по полу с неприятным стуком.
– А ты не доносишь, деточка, ты работу выполняешь. Ту, за которую я тебе плачу.
– Я думала, платите мне за другое.
– Думала… когда думают – это хорошо, правда, отчего-то редко… ладно, ты это, давай без фанаберий, просто расскажи, чего видела, что заметила… не может такого быть, чтобы не заметила. – Иван Степанович закурил, сигарета в руке нервно подрагивала, и тонкие сизые линии дыма выходили неровными, некрасивыми, неприятными с виду.
Коньяк в бокале имел несколько необычный оттенок, слабый, сладковато-легкий. Зато волна тепла, разлившаяся по телу, немного расслабила.
– Мне ж не любопытства ради, я понять хочу, кто из них… кого мои деньги за черту перевели. Грех это – искушать человека… выходит, не только на нем, но и на мне кровь, а в моем возрасте лишняя кровь на руках – серьезная неприятность… в Бога не верю, а все ж таки…
Он говорил это не мне – Мадоннам, которые взирали на происходящее с легким недоумением и даже испугом. Притворно, лаково блестели слезы на лице Скорбящей, а сердце в ладони Гневливой выглядело и вовсе неестественно.
И я начала рассказывать, о тайнах, догадках, размышлениях.
Дед не перебивал, слушал и, согревая бокал в ладони, не спешил пить. А мой уже пуст… жаль. Хотя, наверное, хватит… я совершенно не умею пить. И рассказывать тоже не умею.
– Спасибо. Извини за грубость, бывает… ты не думай, я заплачу за работу. Я вообще привык платить. – Дед раздавил окурок в пепельнице. – Правда, в основном деньгами. Ты иди, а мне подумать надо.
Я плотно прикрыла дверь кабинета, оперлась на стену, переводя дыхание… сердце стучит как-то очень уж сильно, и слабость непонятная, наверное, простыла.
Подняться к себе, задернуть шторы, тонкой стеной материи отгораживаясь от солнечного света, назойливо яркого, вызывающего мучительную тошноту… и на кровать, обнять подушку, укрыться одеялом. В сон я провалилась незаметно для самой себя, а вышла от назойливого чириканья, болью отзывавшегося в висках. Телефон. Пусть заткнется… нет, трубку брать не стану… не стану, и все.
Пять секунд блаженной тишины и снова… телефон не замолкал, пришлось вставать, искать, ловить выскальзывающую из рук трубку.
– Алло!
Молчание, чье-то дыхание, нарочито-громкое, возбужденное… мерзость какая. Я нажала на «отбой», но спустя несколько секунд телефон вновь зазвонил, правда, на сей раз к дыханию добавился голос:
– Ну ты, сука… жить хочешь? – И не дожидаясь ответа, добавил: – Тогда исчезни.
И отключился. Интересный разговор… нельзя сказать, что я испугалась, скорее уж просто неприятно, ну да как-нибудь переживу.
За окном сумерки, почти ночь, неужели я проспала весь день? Зато головная боль исчезла. Или почти исчезла.
Спускаюсь вниз, вслушиваясь в странную, нехарактерную для этого места тишину. И свет какой-то приглушенный. Наверное, мне чудится, от простуды или спросонья.
Семейство в полном составе собралось за столом, не ужин – к ужину я, похоже, опоздала, – чаепитие. Нежный фарфор, расчерченный лиловыми узорами, чашки, блюдца, кофейник, заварочный чайник, сахарница… посуды много, вся в одном стиле, и это обстоятельство вызывает глухую тоску навеки установленного, размеренного и совершенно непонятного ритуала.
– Александра, вы проснулись? – Тетушка Берта нервно улыбнулась. – А мы уже волноваться начали…
– Опаздывать к ужину – дурной тон, – заметила Евгения Романовна, отодвигая чашку в сторону. – Кстати, выглядите вы несколько… бледно.
– Да, Сашенька, выглядите не очень, – поспешила согласиться Берта. – Вы не заболели часом?
– Нет. – Я села на свободный стул, походя отметив отсутствие Деда. Наверное, снова уехал… оставил на растерзание.
У чая неприятно-горький привкус, а под неприязненными взглядами Бехтериных горечь становилась совсем уж невыносимой. И головная боль, очнувшись, с новой силой скреблась в виски.
– С вами все в порядке? – вежливо поинтересовался Игорь, старательно глядя мимо меня. Ну да, сердится, а чего сердиться, я же предупреждала…
– В порядке.
Ольгушка выглядит грустной, даже не грустной, а скорее огорченной, к чаю не притронулась, сидит, разглядывает узоры на скатерти и время от времени косится на Татьяну. Та взвинчена и руки дрожат, а на белой майке некрасивые пятна пота. Плохо? Догадываюсь от чего, видимо, мои подозрения, точнее, мой рассказ, подвиг Деда на разговор с внучкой…
И Мария бледна, почти до синевы, ненакрашанные губы болезненно-лилового цвета, почти как узор на фарфоре, вот только неухоженной ноздреватой коже далеко до фарфоровой гладкости. И глаза покрасневшие. Плакала?
– Вы случайно не знаете, Иван Степанович собирается почтить нас своим драгоценным присутствием? – Ехидство, звучавшее в голосе Евгении Романовны, вывело из задумчивости. – Или причиной вашего совместного отсутствия была отнюдь не внезапная болезнь…
– Какая болезнь? – все-таки соображала я спросонья плохо.
– Не знаю, какая, я не врач. – Евгения Романовна мило улыбнулась. – Просто для нас несколько необычно… Иван Степанович никогда прежде не позволял себе задерживаться. Может быть, вы, Александра, будете столь любезны и наведаетесь к нему… на правах, так сказать, будущей супруги, а то мы уже беспокоиться начали…
Не знаю, знала ли Евгения Романовна, догадывалась ли, или все вышло и в самом деле случайно, как она утверждала позже, но Деда нашла я. Не в комнате – в кабинете, за заботливо прикрытой мною дверью. Иван Степанович сидел в кресле напротив картин, старый, беспомощный и мертвый… я как-то сразу поняла, что он мертв, даже не столько по позе, сколько по выражению нарисованных лиц.
Они были печальны, обе плакали и обе сожалели, обе глядели с упреком и никогда прежде не были столь похожи, как в этот момент нечаянного присутствия при чужой смерти. Именно это неестественное сходство разного и удивило меня настолько, что страх и понимание произошедшей катастрофы не сразу пробились в сознание.
А потом я закричала…
Больше всего поражало то, что никто, кроме Настасьи, не замечал происходящего с Лизонькой, оттого Настасья и молчала, не будучи уверенной, что ей не чудится. Ведь наутро она даже не могла сказать точно, имел ли место ночной визит сестры, либо же все увиденное являлось причудливой игрой расшатанных нервов.
Настасья приняла решение наблюдать, дабы подтвердить свои догадки хоть какими бы то ни было фактами. Правда, что считать фактом, она не совсем понимала. Вот, скажем, внезапный интерес Лизоньки к домашнему хозяйству или не менее внезапное отвращение к живописи? Или появившаяся привычка часами просиживать в Музыкальном салоне, разглядывая портрет Катарины де Сильверо?