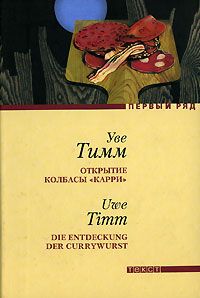Присутствия сестры Лизонька словно бы и не замечала, не пыталась заговаривать, не норовила обсудить последние новости, и даже приглашение на бал-маскарад в доме Коружского оставило ее равнодушной. Сама же Настасья пребывала в смятенном состоянии духа, опасаясь и за сестру, и за себя самое, потому как редкие, пойманные случайно взгляды, которые адресовались не столько самой Настасье, сколько Беатриче де Сильверо, были полны почти неприкрытой ненависти.
Единственное, что осталось почти неизменным – те полные бесстыдного счастья ночные встречи, когда душа обретала почти невозможную свободу… иногда Дмитрий казался Настасье дьяволом, умело играющим на струнах ее души и слабостях тела. Иногда – ангелом, явившимся специально для того, чтобы открыть Настасье путь к небу.
Или не к небу… стыд сгорал в его руках, винным пеплом будоража кровь, заставляя забыть обо всем. И Настасья забывала, чтобы утром, очнувшись от дремы, вдохнув разогретый солнцем воздух молодого лета, снова очутиться в мире-клетке, где нужно скрывать любовь и следить за сестрой.
К балу у Коружского Лизонька чуть отошла, ожила, а наряд, заботливо выбранный маменькой, чудесным образом подчеркнул ее хрупкость, не болезненную, но изысканно-утонченную. Фарфоровая белизна кожи, мягкое золото волос, наперекор моде распущенных по плечам и лишь у лба удерживаемых шелковой лентой. И платье легкое, полупрозрачное, на самой грани приличий. А за спиною крылья из проволоки да лебединых перьев. Настоящий ангел.
Рядом с Лизонькой Настасья ощущала себя неуклюжей и разряженной не в меру, да и то сказать, голубой атласный подол норовил пойти крупными резкими складками, да ко всему подчеркивал природную смуглость кожи. Стянутые, уложенные в сложную прическу волосы выглядели натуральным париком и, увидев себя в зеркале, Настасья едва не заплакала с горя.
Конечно, маменька всегда больше любила Лизоньку, она ведь послушная, покорная, воспитанная, не то что старшая дочь. Выдрать, вытащить из волос проклятые шпильки, и колье это снять, не по возрасту тяжелое, точно ошейник… и платье нелепо.
– Ангел и звезда. Николя, правда, они прелестны? – маменька всплеснула руками. – Анастаси, не горбись и постарайся улыбнуться. Посмотри на сестру.
Настасья смотрела, задыхаясь от зависти и ревности, предвидя, как отреагирует Дмитрий на хрустально-прозрачную Лизонькину красоту, а та, словно догадываясь о сестриных мыслях, радостно улыбалась.
– В этом я выгляжу старухой! Я никуда не поеду. – Настасья заморгала, отгоняя злые слезы. – Слышите? Не поеду. Ты нарочно меня изуродовала, чтобы она… она…
Матушка вздохнула и, повернувшись к зеркалу, холодно произнесла:
– Ну что за капризы. Николя, ты видишь? Надеюсь, ты внушишь своей дочери, что подобное поведение в сложившихся обстоятельствах абсолютно неприемлемо… Анастаси, ты должна успокоиться, мы не можем позволить себе опоздать. И еще, будь добра, веди себя пристойно.
– Я не…
В синих отцовских глазах была обреченность и такая тоска, что Настасья замолчала, не договорив. Былое чувство страха кольнуло сердце… и вправду, глупо вести себя подобным образом, она же взрослая, более взрослая, чем предполагают родители. Да и отца огорчать не хочется, что до наряда, то… Дмитрий видел ее во многих нарядах и без них, этот же ничего не изменит.
– Простите, матушка. И вы, отец. Здесь просто… жарко очень.
– Нюхательную соль не забудь, – почти ласково посоветовала матушка. – И для Лизоньки тоже.
Смотрят. Обе. С упреком и насмешкой, видели, знают – кто, но не расскажут. Бред и сумасшествие. Заразное сумасшествие. Подхваченное от Александры, которая тихо всхлипывает в углу, и вскормленное нарочито-таинственной атмосферой кабинета.
Дверь была заперта. Еще днем, когда Игорь пытался найти Деда, дверь в кабинет была заперта, причем изнутри. Признаться, Игорь подумал, что… впрочем, о мыслях подобного рода лучше не распространяться, особенно, если ситуация носит характер столь двусмысленный.
Яркое солнце под желтым абажуром, глупая мошкара, ковер, на котором светлыми линиями выделяются следы от ножек, безо всякой экспертизы можно понять, что кресло передвигали.
Конечно, передвигали, прежде оно стояло ближе к окну, у стола, а теперь прямо напротив чертовых картин, Игорь решил, что завтра же уберет их. Или не уберет, нелепая смерть Деда многое изменила, и Бехтерина не отпускало ощущение, что остальные думают не столько о самой смерти, сколько о переменах. Кто вверх, кто вниз, каждому по делам его, так часто повторял покойник.
Дед сидел в кресле, руки на подлокотниках, голова запрокинута, некрасиво выпирает кадык, а глаза закрыты… сам или кто-то? Этот вопрос показался Игорю чрезвычайно важным, как и тот, почему дверь кабинета была заперта, а теперь нет? И что было в простом бокале, который валялся здесь же, у ножки кресла, точно Дед перед смертью выронил.
Отравление?
Скорбящая Дева пожала плечами… показалось. Вот, теперь и ему мерещится. Всего-навсего картины.
Две картины и один труп.
Милиция приехала спустя час. Много. И времени, и милиции, оно и понятно, Иван Степанович Бехтерин – не Марта, исчезнувшая пять лет назад, и не Любаша – несостоявшаяся модель и неудачный модельер. Иван Степанович Бехтерин – фигура.
Приехавшие это понимали, оттого работали спешно, с непонятной злостью, не пытаясь даже скрывать раздражение. Только Лев Сергеевич – Игорь в очередной раз вяло удивился, до чего же неподходящее имя у местного участкового – держался вежливо. Он вроде был и с приехавшими, а вроде и в стороне. Как-то само вышло, что Игорь очутился рядом с ним.
– Добрый вечер, – участковый рассматривал картины, и на лице его было написано удивление столь явное, что Игорь тоже поглядел. Ничего нового, но продать, завтра же, он не суеверный, но просто на всякий случай. От греха подальше.
– Знаете, а вот ваша жена похожа… очень похожа. – Лев Сергеевич виновато улыбнулся, будто находил усмотренное им сходство до некоторой степени неприличным. – Цвет волос немного иной, но в остальном…
– Ерунда. – Игорь злился, ну не время и не место сейчас беседовать о картинах. Убийство произошло, пусть даже на теле Ивана Степановича нет ран – вроде бы нет, – но Бехтерин не сомневался: Дед не сам умер. Помогли. Вопрос – кто.
– Извините, наверное, и вправду ерунда. Просто историю слышал про эти картины, вот и лезет в голову.
– Про то, что одна сестра из ревности убила другую? – Игорь перешел на шепот. – И при чем тут Ольгушка?
– Н-не знаю. Извините. – Участковый покраснел и отвел взгляд. Да уж, Лев. Какой из него Лев – Левушка максимум.
– Это вы извините. Не хотел грубить.
Не хотел прикасаться к той давней истории, которая выползла на свет вместе с картинами, чтобы прилипнуть, привязаться, отравить жизнь предопределенностью. Точнее, ожиданием предопределенности, когда все, даже Иван Степанович, спешили отметить, обратить внимание на это почти неестественное сходство. И та история с Мартой, авария, Ольгушкина болезнь стали своеобразным подтверждением их правоты, отголоском прошлого, в которое Игорь не верил.
Не хотел верить.
– Нам бы свидетелей опросить. – Голос Петра – не апостола, но милиционера, въедливо-нахального, сросшегося со своей кожанкой, вывел из задумчивости. – Да и вы, Игорь Никитич, работать мешаете… пойдемте-ка лучше поговорим.
Говорили долго, сначала с Игорем, потом с остальными, дольше всего – с Александрой. Почти полтора часа. Игорь ждал, нервничал и раздражался, а раздражаясь, нервничал еще больше, хотя вроде бы пока причин для нервозности не было.
Или были?
Когда милиция уехала, оставив некоторый беспорядок, истерзанные вопросами нервы и смутное ощущение свершившейся беды, семейство в полном составе собралось внизу. Пусто, темно, рассвет уже скоро, но никто не спешит уйти.
Ждут. Следят. Наблюдают друг за другом обострившейся ненавистью, гадают, кого же Дед посмертно наградил деньгами и свободой жить так, как хочется, а кому придется и дальше подстраиваться под других.
И Александра здесь же, обнимает Ольгушку, гладит по волосам, шепчет что-то, наверное, успокаивает… увести бы их обеих отсюда. Приближающийся скандал Игорь ощущал не то что кожей – каждой клеткой тела.
– Это она убила, Сашка, – с ходу заявил Василий, нимало не смущаясь присутствием Александры. – Она его последняя живым видела, сама призналась.
– Я не убивала. – Голос у белобрысой тихий, усталый, защищается скорее рефлекторно, чем осознанно. – Зачем мне убивать его?
– Действительно, незачем, – неожиданно поддержала Евгения Романовна. – Смерть жениха накануне свадьбы невыгодна.