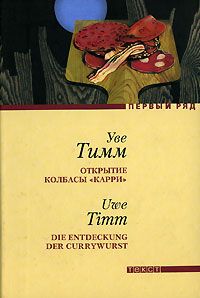– Я не убивала. – Голос у белобрысой тихий, усталый, защищается скорее рефлекторно, чем осознанно. – Зачем мне убивать его?
– Действительно, незачем, – неожиданно поддержала Евгения Романовна. – Смерть жениха накануне свадьбы невыгодна.
– Это если бы свадьба состоялась. – Василий откинулся на спинку кресла и, забросив ногу за ногу, принялся излагать «достоверные» факты. – Но если свадьбы нет и есть проблемы… точнее могли бы быть. Дед не простил бы неверности…
– Заткнись, – Игорь понял, что он на грани, еще немного и сорвется. Нельзя. Следует держать себя в руках и сохранять ясность мышления.
– Что, братец, не нравится? Кстати, тебе бы тоже досталось… или все-таки не она, а ты?
– Васенька, ну что ты такое говоришь. У меня мигрень начинается. – Мать кончиками пальцев массировала виски. – И с чего вы вообще взяли, что это убийство? Он ведь старый был… инфаркт, инсульт… ну я не знаю.
– Плакали. – Хрустальный Ольгушкин голос заставил окружающих вздрогнуть. – Они обе плакали над потерянной душой. Они любили его, но любовь – это очень больно.
И подумав, тихо добавила:
– Очень-очень больно… особенно, если возвращается.
От смерти Ивана Степановича Бехтерина за километр воняло криминалом – это Петр сказал, а Левушка согласился. Сам он никакого запаха не ощущал. Ну разве что пыли и еще чего-то спиртного, резкого и неприятного, навроде самогона.
Коньяк и кокаин, как выяснилось позже.
Коньяк и кокаин… чересчур претенциозно для восьмидесятилетнего старца.
– Сам посуди. – Петр был мрачен более обычного, на выпирающих скулах багряными пятнами раздражения горел румянец. – Во-первых, старик отличался благоразумием. Заметь, это не я говорю, это Бехтерины наперебой твердят. А ни один благоразумный человек в возрасте семидесяти восьми лет не станет мешать коньяк с кокаином.
Петр перевел дыхание. Левушка слушал молча, не торопя вопросами. Вообще-то он не очень понимал, зачем его сюда вызвали, он всего-то участковый, да и то работает не так давно, какая с него польза?
– Во-вторых, дверь. Помнишь, сначала вроде бы как дверь была заперта, а потом вдруг оказалась открытой?
Петр сел на край стола. Тесный у него кабинет и неуютный. Стену прикрывает календарь за позапрошлый год, изрядно выцветший и запыленный, шторы обесцветились, выгорели до белизны, и вид из окна унылый.
– Я вот что думаю, кто-то знал о привычке старика, и о заначке, которую тот в столе держал, вот и сыпанул от души. А Дедово сердце нагрузки не выдержало.
– Ненадежно как-то, – Левушка сказал и испугался, куда ему с советами лезть-то, но Петр согласился:
– Ненадежно. И дверь эта… ну закрыли ее, так ведь он кричать мог, или стучать, или еще что… а если бы покрепче оказался, то так и сделал бы. Странно это все, глупо… по-женски как-то.
Левушка пожал плечами, особой «женскости» он не видел. Наверное, от отсутствия опыта.
– Ну смотри, куда проще по голове дать… или ножом, как эту твою Любу… или придушить на худой конец. А то отрава в коньяке… Чай будешь?
– Буду, – быстрая смена темы несколько удивляла, но от чая Левушка не отказался бы, а если еще и к чаю найдется чего-нибудь, то совсем хорошо будет.
К чаю нашлись твердые сушки, бутерброды с сыром и изрядно засахарившееся варенье.
– Ты извини, что дернул… короче, тут такой вопрос, неофициальный… – Петр накрыл стол газетой, от кипятильника в стакане подымались вверх мелкие пузырьки воздуха, совсем скоро закипит. – Ты вроде как и не обязан… сам понимаешь, с убийством этим мне свезло, как утопленнику. Вроде москвичи забрать собираются, да только пока они соберутся… а меня начальство каждый день сношает в разных позах.
Он вздохнул, потер переносицу и, сыпанув по стаканам заварки, продолжил.
– Официально к Бехтериным соваться не с руки, важные, аж тошнит… и меня пошлют куда подальше. Да и мотаться туда-сюда радости мало. А ты вроде как местный, свой.
– Чужой, – машинально ответил Левушка и пояснил: – Для них все чужие, если не из дома.
– Так, а Люба твоя? Поговори с ней, все равно каждый день в больницу носишься… да не спеши отказываться, я ж не прошу семейные тайны выдавать, мне бы немного разобраться, кто и чем там дышит. У кого духу хватило бы… или дури. Кстати, к вопросу о дури.
Вода пошла крупными пузырями, разлилась, расплескалась из стакана, и Петр, выругавшись, поспешно выдернул кипятильник из розетки. Левушка думал, точнее, пытался думать. Предложение Петра претило двусмысленностью и тем, что вроде как придется использовать Любашино доверие в интересах следствия. А с другой стороны, речь об убийстве идет…
Залитая кипятком заварка переливалась оттенками светло-чайного янтаря. Красиво.
– Так вот, – Петр тряпкой вытер разлившуюся воду. – Больше всего меня удивляет, откуда в твоей глуши кокаин взялся… привез кто-то, с собою привез, и вряд ли для того, чтобы старика отравить… а значит, любитель. Найди его, Лева, а?
– Зачем? – Стекло нагрелось, и держать стакан в руке стало невозможно.
– А чтобы узнать, кому он о своем увлечении рассказывал, – пояснил Петр. – И лучше не Любу, а Александру эту потряси… чужой человек в доме, такие многое видят. Ты чай пей, пока горячий…
Двое суток тишины и ощущения близкой катастрофы. Двое суток чужой враждебности, запрет Игоря покидать дом и собственная нерешительность нарушить этот запрет. Двое суток существования в «нигде».
Дьявольски долгие двое суток.
Клетка-комната своеобразной защитой от прочих Бехтериных. Я не знаю, почему они так легко поверили в то, что Ивана Степановича убила именно я. Может, потому, что я – чужая, меня легче подозревать, легче ненавидеть.
Хотя нет, вру, до ненависти там далеко. Семейство распадалось, размываемое притворными слезами и раздираемое ожиданием и завистью. Они не знали, кто будет наследником, и вместе с тем скалились, грызлись, задевали друг друга словами и подозрениями.
Внизу неуютно. В комнате тесно. Еще немного, и сойду с ума. Меня допрашивали трижды, сначала о наших с Иваном Степановичем отношениях – я рассказала правду. Потом спрашивали о Бехтериных, долго, нудно, пытаясь вытянуть подробности внутрисемейной жизни, и тут, движимая непонятным и нелогичным упрямством, я молчала. И об угрозах по телефону, и о влюбленности Марии, и о бело-кокаиновой тайне Татьяны.
Я не врала, я говорила правду, что недавно в доме и плохо знаю семью… и мне верили, кажется, верили. И задавали новые вопросы, от которых я опять же отгораживалась незнанием. И вот тишина.
За окном солнце и догорающая жаром весна, иллюзия свободы и продолжающаяся жизнь. Уйти бы… меня никто не держит, дверь открыта, всего-то и надо, выйти из дома и по тропинке до деревни, а там на автобус… или заплатить кому-нибудь из местных, чтобы довезли до города. Я же сижу и молча примериваю на себя чужие неприятности.
Зачем? Не знаю.
Татьяна сама пришла ко мне, плотно прикрыла дверь и, опершись на нее спиной, поинтересовалась:
– Это ведь ты, да?
– В каком смысле?
Она фыркнула. Она подобралась, руки скрещены на груди, ноги на ширине плеч, взгляд хмурый, настороженный и нервный.
– Ты знала про порошок… Явилась сюда, вынюхивала чего-то… небось Деду донести собиралась, а он взял и умер. – Татьяна хихикнула. – Умер, старый тупой урод… умер…
– Успокойся, – мне было слегка не по себе. Татьяну ломает, пока не сильно, но не стоит ждать от нее адекватного поведения.
– А я спокойна. Я очень даже спокойна. Мне глубоко насрать, узнает кто или нет. Деда нету, теперь пусть все знают, что Танька – долбаная наркоманка! Почти в рифму…
Слеза прочертила дорогу по щеке, Татьяна смахнула ее, Татьяна улыбалась, Татьяна была невменяема.
– Думаешь, каково это, когда всю жизнь только и слышишь «должна, должна, должна». А я не хочу быть должна, я не хочу соответствовать, я хочу сама по себе… и выбирать, а не идти, куда скажут, – она опустилась на пол, вытянула ноги.
– У меня проблем нет. Нет проблем. Я просто, чтобы ему досадить… достал нравоучениями, всех достал… а я назло. Теперь брошу. Завяжу. Я уже третий день… сама… у меня хватит воли.
– Конечно, хватит. – Я присаживаюсь рядом, обнимаю ее за плечи. Я не верю в силу воли, нет ее, есть запертая комната и лечение. Есть боль, которая очищает, есть раскаяние и острое желание послать все и вся к чертовой матери, потому что в глубине души знаешь, что сопротивляться бесполезно.
– Иди к дьяволу, – пробормотала Татьяна. – И он тоже к дьяволу… сдох. Коньяк и кокаин, чертовы картины… шикарная смерть для старого урода. А ведь только ты про меня знала…
– Догадывалась.
– Где догадка, там и знание, – философски заметила Татьяна. – Я по глазам видела, по тому, как смотришь, как улыбаешься… ты все видела, и Деду, наверное, доложила. Убил бы, но сам сдох… а милиции не рассказала, иначе трясли б уже. Почему?