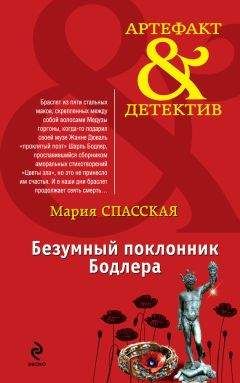– Рассказывай, гад!
– Что рассказывать? – просипел Мамаев.
– Что за стихи кладешь Кире? Ведь это ты делаешь? Не мотай башкой! Лучше признайся, я ведь задушу, ты меня знаешь!
Распластанный на полу Сергей посинел и закатил глаза, колотя ладонью по половицам и прося пощады.
– Я скажу… Все скажу… Отпусти, – чуть слышно выдохнул он. – Ну да, пришел и положил ей в сумку, когда вы спали.
Конечно! Я проснулась от скрипа двери! Вовка ослабил хватку, и его приятель быстро заговорил:
– Вы идиоты! Вы понятия не имеете, на кого поднимаете хвост! Это страшный человек. Лучше не рыпайтесь, делайте что он говорит.
– Кто – он?
– Я не знаю. Все зовут его Седой. Я должен ему крупную сумму денег и отрабатываю долг. Больше я ничего не скажу, иначе мне не жить.
– Тебе и так не жить, – прошипел Лев, снова наваливаясь коленом на горло коллеги. – Выкладывай все, что знаешь, а то сдохнешь прямо сейчас.
– Сразу после армии я пошел работать в милицию и женился на своей дуре, – тараща глаза, захрипел рассказчик, – и жена мне плешь проела, что у нас нет собственной квартиры и мы живем с родителями. Я взял ипотеку и купил однушку в Строгино. И тут меня турнули с работы по сокращению штатов. Я потыркался туда-сюда – везде фигово. Но ипотеку как-то надо выплачивать, и я подписался перевозить наркоту. Мне передавали пачки таблеток, так называемый «винч», и я доставлял посылки по указанному адресу. Но однажды моя дура обнаружила сумку с посылками и смыла таблетки в унитаз. Товару было на бешеные бабки, и мои работодатели включили счетчик. Когда долг достиг астрономической суммы, меня отловили на улице, сунули в багажник машины и привезли на какую-то квартиру. Человека, который меня встретил, я видел в первый раз в жизни. Его называли Седой. Он усадил меня на стул и сказал: «Сережа, ты меня сильно расстраиваешь. Твой долг так огромен, что тебе не расплатиться со мной, даже если ты продашь квартиру, свою и родительскую, почки, печень и сердце, а также жену, целиком или на запчасти. Но я могу забыть о деньгах, если ты выполнишь то, о чем попрошу. Мне нужно, чтобы ты устроился работать туда, куда я тебе скажу, и пристроил туда же своего армейского друга Владимира Левченко. Остальные инструкции ты получишь по ходу дела». Я согласился. Мне просто некуда было деваться. В тот же день меня взяли на должность начальника охраны парка. Я позвонил тебе и предложил работать моим заместителем. И вот недавно я получил очередное задание Седого – отвести тебя к скамейке за эстрадой в строго указанное время. Там мы увидели Киру. Седой хотел, чтобы она поселилась у нас. Затем новое задание – незаметно подкладывать твоей подруге в сумку листки со стихами.
– Где ты их берешь?
– В условленном месте. В нише под мостом.
– Чего Седому от нас надо?
– Честно, брат, не знаю.
– Как он выглядит?
– Здоровый такой, накачанный. Весь в татуировках. И совершенно седой.
– Ладно, живи, падаль.
Вовка отпустил Мамаева и, сердито сопя, начал одеваться. Помятый начальник охраны сразу же кинулся к крану, открыл воду и сунул голову под бьющую струю. Я тоже стала торопливо натягивать джинсы и пуловер, вынутые из чемодана, ибо юбка и блузка были сильно измяты. Мы вышли из сторожки на рассветную улицу и, услышав, как щелкнул за нами замок запираемой изнутри двери, устремились к машине.
– На этот раз Ольга, это точно, – задыхаясь от быстрой ходьбы, говорила я. – Я уверена, что очередной цветок мы найдем в ее доме.
– Адрес знаешь?
– Была у нее однажды. Могу показать, как проехать.
– Есть какие-то соображения относительно Седого?
Соображения были. Да что там соображения, после рассказа Сергея я точно знала, кто обложил меня со всех сторон. Продажа наркотиков в лотерейных клубах испокон веков была вотчиной ребят Ефима Борова, но пару месяцев назад их прогнали из всех «Везувиев» разом. Я не вникала в эти детали, просто на месте парнишек Борова вдруг увидела других ребят. Они продавали какую-то неведомую мне дурь в пилюльках, называвшуюся «винч». Мне это неинтересно, за этим следит моя полицейская крыша. Но Фима Боров с новыми порядками не согласился и стал валяться у меня в ногах, упрашивая решить вопрос в его пользу. Ну, я и пообещала, хотя и не думала помогать. Вероятно, что Боров раззвонил о моем обещании по всей Москве, и Седой, как поставщик «винча», решил принять превентивные меры.
– Никаких мыслей на этот счет, – пожала я плечами.
– С наркотиками никак не сталкивалась?
– Ни разу в жизни.
Мы проехали половину пути, когда вдруг зазвонил Володин мобильник. Одной рукой придерживая руль, Лев вынул аппарат из кармана и, взглянув на дисплей, удивленно вскинул брови.
– Серега звонит.
– Ответь, – посоветовала я.
Он нажал на клавишу приема, и в отстраненной от Вовкиного уха трубке я услышала приглушенный голос Мамаева:
– Вольдемар, ты бумажник с правами забыл. Без прав никак нельзя. Вернись.
Мамай говорил с тоскливыми интонациями, и это не могло не насторожить.
– Думаю, надо повернуть обратно, – пробормотала я.
Развернувшись на светофоре, мы понеслись в сторону центра Москвы. Въехали на стоянку и затормозили на привычном месте. Выбираясь из машины, я заметила, что дверь сторожки приоткрыта, а замок сорван и болтается на одном гвозде.
* * *
– Хвала небесам, что Жак не дожил до судилища над тобою, Шарль! – Каролина воздела руки в немой мольбе. – Такого позора генерал бы не перенес.
Бодлер криво усмехнулся, глядя на траурное одеяние матери. После похорон любимого мужа Каролина уединилась в Онфлере, в особняке на высокой скале, возвышающейся над портом, как Олимп. Этот дом перед самой своей смертью купил отчим для летних выездов на природу. Особняк был роскошный, с просторными комнатами, рабочим кабинетом, гостиной, верандой, застекленной галереей, садом, террасой, служебными помещениями и конюшней. Шарль ждал, что теперь, когда Опика не стало, мать попросит его перебраться к ней жить. И, не дождавшись, наведался в Онфлер сам. Каролина встретила сына неприветливо.
– Об этом не может быть и речи! – категорично откликнулась она, стоило только Шарлю заикнуться о своих намерениях. – Я не потерплю богохульника под одной с собою крышей! Книгу стихов, которую ты передал моему духовнику, тот с негодованием сжег! И это мой сын! Какой позор!
– Ну что же, тем лучше! Признаться, я предпочитаю свежему бризу смрадный смог Парижа, – желчно откликнулся поэт, задетый за живое. И поспешил перевести разговор на другую тему: – Ты ведь знаешь, мама, что скоро состоится суд. Для укрепления позиций мне не хватает заступничества влиятельной дамы. Не могла бы ты мне кого-нибудь порекомендовать?
Шарль, несомненно, имел в виду саму Каролину, но та делала вид, что не замечает его намеков, пропуская рассуждения сына мимо ушей. Тогда Бодлер перешел к лобовым атакам.
– Вот если бы ты замолвила в суде словечко о моем творчестве… – начал было Шарль.
– Я больше ничего не желаю слышать о твоем творчестве! – оборвала сына вдова генерала, выходя из гостиной и с грохотом захлопывая за собой дверь.
Несмотря на то, что разразившийся скандал набирал обороты, получив отказ Каролины, Шарль опустил руки, по своему обыкновению надеясь, что все разрешится само собой. Он ждал, что помощь, как всегда, подоспеет в нужный момент, однако никто из знакомых Бодлера и пальцем не пошевелил, чтобы избавить его от неприятностей. Не помог даже Теофиль Готье, посвящением которому Шарль думал обезопасить «Цветы зла» от нападок недоброжелателей. Когда до слушания дела оставались считаные дни, опальный поэт решил переговорить с адвокатом. Шарль настоятельно рекомендовал ему упомянуть в защитной речи Ламартина и его «Падение ангела», а для большего эффекта с отвращением процитировать ужасные гадости, которые писал Беранже. Кроме того, будущий подсудимый выпустил небольшим тиражом брошюру «Статьи в оправдание Шарля Бодлера, автора «Цветов зла». Часть из них отослал в прокуратуру, а оставшиеся экземпляры отправил членам исправительного суда. Не хватало последнего штриха, чтобы картина его невиновности выглядела совсем уж правдоподобно. Аполлония Сабатье! Вот кто отведет от Шарля нападки невежественных судейских чиновников! Бодлер тут же уселся за письмо к своей будущей заступнице. Перо его привычно скользило по бумаге, на листе росла и крепла броня из спасительной лжи. «Забыть Вас невозможно, – писал Бодлер. – Говорят, были поэты, прожившие всю жизнь с глазами, устремленными на один и тот же любимый образ. Я и в самом деле полагаю (правда, я здесь лицо более чем заинтересованное), что верность – один из признаков гениальности. Вы – более чем образ, о котором мечтают, Вы – мое суеверие. Сделав какую-нибудь крупную глупость, я говорю себе: «Боже! Если бы она узнала об этом!» А когда я делаю что-нибудь хорошее, то говорю себе: «Вот это приближает меня к ней духовно». В последний же раз, когда я имел счастье (совершенно помимо моей воли) встретить Вас, – ибо Вы даже и не подозреваете, как старательно я избегаю Вас! – я говорил себе: было бы странно, если бы этот экипаж ожидал именно ее, и тогда, может быть, мне стоило выбрать другой путь. И вдруг: «Добрый вечер, месье!» – прозвучал ваш дивный голос с очаровательным и волнующим тембром. И я ушел, повторяя всю дорогу: «Добрый вечер, месье!», пытаясь даже имитировать ваш голос» [10] . Это была прелюдия, призванная напомнить «Президентше» о нем самом и его скрытой страсти, ранее описанной в стихах. Далее следовала основная часть, ради которой и было написано это письмо. «В прошлый четверг я видел моих судей. Я не скажу, что они некрасивы, они чудовищно безобразны, и души их, должно быть, похожи на их лица. У Флобера среди защитников была принцесса. Мне не хватает женщины. И несколько дней назад мною вдруг овладела странная мысль, что, быть может, Вы могли бы, используя свои связи, по каким-нибудь сложным каналам направить разумный совет кому-то из этих балбесов. Слушание дела назначено на послезавтра, на четверг. Вот имена этих чудовищ: председатель – Дюпати; императорский прокурор – Пинар (очень опасен); судьи: Дельво, Де Понтон д’Амекур, Наккар. 6-й зал для уголовных дел» [11] . Именно «особо опасный» Пинар, мелкая сошка, всего лишь исполняющий обязанности прокурора, когда-то настаивал на суровом наказании Флобера. Если уж самому Флоберу не поздоровилось, чего уж ждать от этого невежды Шарлю? «Я хочу оставить все эти пошлости в стороне. Помните только, что есть человек, думающий о Вас, что в мыслях его нет ничего пошлого и что он просто немного сердится за Ваше лукавое веселье. Очень прошу хранить в тайне все, что я смогу Вам сообщить» [12] . И, чтобы не возникло недопонимания со стороны Аполлонии, он добавляет в постскриптуме письма к своей «мадонне», что все стихи со страницы восемьдесят четыре по страницу сто пять включительно посвящены именно ей.