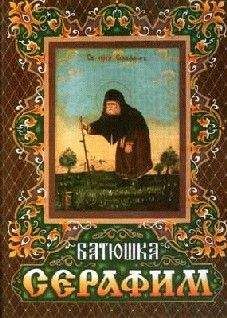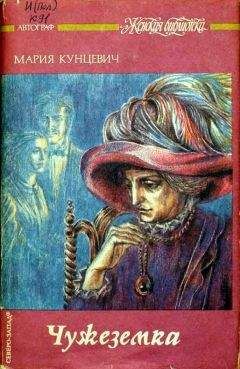– Сегодня, – вцепившись в ее протянутую руку, потребовал Илья. – Сейчас!
Он в коридор не вышел – вывалился, кашляя, пытаясь как-то отделаться от мерзкой вони. Молоточки пульса играли марш в голове, и Далматов почти лишился способности соображать.
На воздух надо!
Только чтобы без солнца. Где летом найти «воздух» без солнца?
– С вами все хорошо? – Администраторша выныривает из коридора. Лицо ее – желтое пятно, яркое, как само солнце. И Далматов заслоняется от этого света рукой. – Вам надо присесть… врача…
– Пошла к черту!
Она не обижается на грубость. Они здесь все до отвращения внимательны к клиентам.
Почему?
Потому что хотят убить. Кого?.. Когда?..
Невозможно сосредоточиться, когда солнца – столько. Оно – снаружи, но – и внутри тоже. Горячее. Испепеляющее. Дрожит стрела на тетиве из света, готова сорваться, полететь вниз. Аполлон – меткий лучник, грозный воин, от него невозможно спрятаться.
Боль уходит – отливом волны, оставляя гулкие отголоски в раскаленных видениями извилинах мозга. Далматов стоит в коридоре, согнувшись, упираясь обеими руками в стену в нелепой попытке удержаться от падения на колени. Солнце требует от людей покорности.
Иначе – смерть.
Рядом хлопочет администраторша, суетливая и бесполезная. Она причитает визгливым голоском, норовя прикоснуться к нему, но, к счастью для нее, не делает этого. И «Скорую» она вызывать не станет. Побоится. Решит, что отравила дяденьку. Как знать, какие травы были в том «натуральном» замечательном чае?
Саломея рядом. Держит… Поддерживает его. Помогает тем, что – рядом.
Нельзя ее отпускать. И надо сказать, чтобы уходила из этого места! Она принадлежит солнцу. Солнце ревниво, куда более ревниво, чем люди. Далматов собирается открыть рот, но вновь накатывает волна холодной липкой тошноты и затыкает ему рот. Стоит разжать зубы, и его вывернет прямо на этот щегольской, стального оттенка ковер.
– Вам следует присесть. – Какая-то круглолицая женщина берет Далматова за руку, а у него нет сил оттолкнуть ее. – Присесть и отдышаться. Пульс у вас совершенно безумный. Сердце шалит?
Он не знаком с этой женщиной, но позволяет себя увести.
Саломея – рядом.
– Вы прилягте. – Его усаживают на диванчик.
Администраторша исчезает, а женщина оттесняет Саломею. Нет! Нельзя, чтобы она ушла. Конечно, не уйдет, но лучше, чтобы она держалась еще ближе.
– Скоро пройдет. Вы принимаете какие-нибудь лекарства?
– Нет. – Тошнота отползает. Это предупреждение: Далматов, не переходи дорогу солнцу!
– Вам следует показаться врачу. – У женщины мягкие голос и руки, а запах от нее исходит странный – свежескошенная трава и еще что-то… дым? – Многие люди крайне небрежно относятся к своему здоровью, а это… чревато.
– Порекомендуете врача? Из местных.
Округлое обыкновенное лицо, уютное в своей обыкновенности. Так выглядят сказочные старушки, еще далекие от настоящей старости, и ласковые нянюшки, готовые простить ребенку любую шалость…
– Молодой человек. – Она даже сердится мягко, и Далматов перестает ей верить. – Я имею в виду нормального врача! Кардиолога. И давать рекомендации в данном вопросе я не решусь.
– Извините.
Извиняет. Но – не уходит.
– Анна Александровна, спасибо. – Саломея присаживается рядом с ним. – Ты на машине?
Далматов кивнул. Неосторожное движение породило фейерверк из разноцветных пятен перед глазами.
– Я отвезу тебя домой. Хорошо?
– Да…
– Встать сможешь?
– Сейчас. Еще минуту.
Руки у Анны Александровны не старушечьи – ухоженные ладони, белая кожа. Маникюр хороший. И золотое колечко, которое – на первый взгляд – выглядит скромным, но такое стоит весьма и весьма прилично. Тонкая работа… знакомая… смутно.
– Милая, вы уверены, что справитесь? – Анна Александровна прячет руки за спину. Случайный жест или она так… внимательна?
– Справлюсь, – обещает Саломея.
До машины Далматов добирается сам. Снаружи – пекло. Полдень еще не наступил, а город уже расплавился. И серый бетон побелел, и дома кажутся костяными, а деревья с поникшей листвой – пластиковыми. И вообще, весь мир – большая декорация к чужой пьесе в стиле древнегреческих трагедий. Далматову тоже отведена в ней некая роль, осталось выяснить – какая именно.
– Садись, – Саломея помогает ему забраться в машину.
Горячая машина. Душная. Почему не справляется система климат-контроля? Потому что солнце – сильнее.
– Ты сейчас притворяешься или как? – поинтересовалась Саломея, мягко трогая с места.
– Нет.
– Может, все-таки к врачу?
– Нет!
Мотор – громкий. И дорога неровная. Свет проникает сквозь тонированные стекла, и Далматову становится хуже. Некоторое время он борется с дурнотой. Саломея молчит.
Хорошо… Не отвлекает его.
– Ненавижу сандал. – Далматову удается сесть. Голову «отпускает», неприятная слабость тоже скоро уйдет, если, конечно, не накроет повторно. – Я и не знал, до чего ненавижу сандал!
– Зачем ты вообще пришел?
В зеркале заднего вида отражаются ее глаза и рыжая прядка волос, выбившаяся из прически. Она падает на лоб и мешает Саломее.
– Ты мог бы позвонить. Или ко мне домой заглянуть. А ты цирк устроил!
Саломея закладывает прядь за ухо, но она явно не удержится, снова выскользнет.
– И тебе меня не жаль?
Дежавю, но – приятное. У Далматова не так уж много приятных воспоминаний.
– Не жаль! Сам виноват… – Она все-таки оборачивается, вздыхает и просит: – Не делай так больше, хорошо?
Илья обещает. «Обещается» легко, тем более что в ближайшем будущем слово он не нарушит. А большего – следует ли ждать?
– Знаешь, – Саломея в сотый раз заправляет непослушную прядь за ухо. – Вчера у меня был странный вечер…
Не у нее одной.
С Далматовым легко говорить. Он умеет слушать, не удивляется странностям, не спешит уверять, будто Саломее все привиделось, что она переутомилась и вообще излишне впечатлительна. Он поверит в этот дом, заполненный странными вещами, которые сделали странными людей, в этом доме обитающих. В табакерку, где никогда не хранился табак, но скрывался яд.
В милую Ренату, которая за маской светского любопытства скрывала свой истинный интерес к Саломее.
И в Аполлона, переставшего быть солнцем.
– Ты его еще любишь? – Далматов вытянулся на заднем сиденье и сунул руки под голову. Выглядел он уже почти нормально. А Саломея испугалась.
Но произошедшее с ним еще не дает ему право лезть к ней с такими вопросами.
– Это важно? – она не хотела говорить на эту тему, потому что сама еще не до конца во всем разобралась.
– Ничуть. Интересно просто.
– Тогда – это не твое дело.
– Не злись. – Он поймал прядь ее волос, опять выпавшую из-за уха. – Когда ты злишься, у тебя веснушки пропадают.
И пусть бы себе пропали совсем, но вряд ли Саломея способна разозлиться так сильно. А вот к парикмахеру заглянуть ей следовало бы или хотя бы подстричь волосы, которые летом растут как-то совсем уж быстро и беспорядочно.
Как пузыреплодник в тени тополей. Старая аллея расступилась, впуская в себя серую ленту дороги. Саломея помнит это место. И деревья – тоже. У первого ствол расколот, а под корнями второго она устраивала «секрет». Ямка в земле. Трава. Несколько сорванных цветков и яркая конфетная обертка. А сверху – стеклышко. И – засыпать песком. Потом – смести песок и любоваться созданной картинкой.
Вот только цветы быстро погибали…
Далматов предложил – надо ставить их в воду, и принес тогда рюмку из столовой. Рюмку приходилось закапывать, но цветы и правда жили дольше. Правда, потом они умирали все равно. В оранжерее – другое дело, там все всегда цвело, и было жарко, солнечно.
Саломее нельзя было находиться там одной. Илье же не нравилось быть окруженным цветами.
Ему вообще нигде не нравилось, только в собственной комнате или в библиотеке. Но там, на взгляд Саломеи, было слишком скучно и темно.
А дом постарел… Он выглядит уже не таким огромным, как в детстве. Тогда ей казалось, что сама тень его давит на землю.
– Ну и как тебе? – Далматов смотрел на дом через затемненные стекла очков, но Саломея готова была поклясться, что во взгляде его нет ни капли любви к этому месту.
– Нормально…
– Я думаю продать его.
– Нет!
Ступеньки растрескались. И газон облысел. Его больше не стригут и не поливают, как прежде. Сквозь стебли травы пробились беспородные ромашки, одуванчики с жесткими корнями и высокая сизая лебеда. Далматов не заботится о доме. Почему? Не понимает, что место это, существующее сейчас, в эти минуты, способно прекратить свое существование? Исчезнуть – вместе с комнатами, вещами, воспоминаниями. И поздно будет сожалеть об утрате…
В холле ничего не изменилось. Пол. Потолок. Стены. Краски потускнели, вещи постарели, но все – на прежних местах.