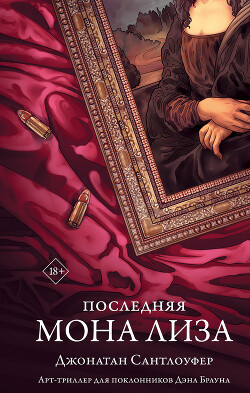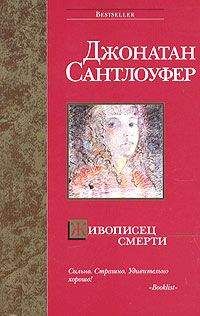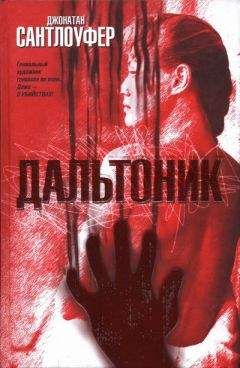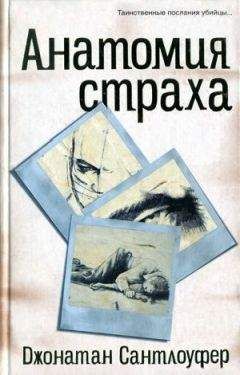была гладкая, глаза ясные и голубые с привлекательными морщинками, белоснежные волосы – поразительно красивая стройная женщина почти моего роста. На ней были черные джинсы в обтяжку и блейзер, переливавшийся, как змеиная кожа.
Она восхитилась золотым медальоном Аликс. «Это мамин», – сказала Аликс и в ответ похвалила куртку Каролин. «Имитация питона», – пояснила та и рассказала, где такой можно купить, и предложила сводить ее, и Аликс согласилась. Мне пришлось прервать их общение, указав, что охранник уже спрашивает наши билеты, и они рассмеялись, словно давние подружки.
В музее свет струился сквозь стеклянный потолок и отражался от хромированного эскалатора, который повез нас вниз, в углубленный вестибюль и книжный магазин, за которым находилось широкое, тускло освещенное помещение, всю дальнюю стену которого занимала фреска с изображением глаз Ван Гога.
Каролин заметила, что здесь все автопортреты Ван Гога – «кроме последнего, того, который исчез с его похорон».
Мы с Аликс переглянулись, но прежде чем я успел что-либо спросить, Каролин добавила: «Я тоже лишилась картины, принадлежавшей моему дедушке. Это был не портрет, а очень известная картина, версию которой вы увидите наверху».
Я вспомнил: Джуд упоминал, что у ее деда или прадеда была какая-то знаменитая картина Ван Гога. Мы прошли в комнату автопортретов: некоторые остались в набросках, другие были почти или полностью закончены, одни в его знаменитой соломенной шляпе, другие с трубкой. Было несколько фотографий молодого Винсента, почти мальчишки, другие – постарше, хотя совсем старым Ван Гогу не довелось побывать.
Каролин указала нам на одну из двух картин в коробках из плексигласа, стоявших на подставках в центре зала: Винсент в соломенной шляпе, похожей на ту, что висит в нью-йоркском музее Метрополитен, изо рта у него свисает трубка, нижняя губа ярко-розовая, брови подчеркнуты так, что придают выразительность задумчивому взгляду. «При взгляде на эту картину кажется, что мы знали его лично, правда? – сказала Каролин, и она была права. В картине было что-то живое.
– Я чувствую, улавливаю смысл в картинах, – продолжала она. – И в людях тоже всегда чувствовала. Я в некотором роде эмпат. Возможно, это из-за моего воспитания… Трагедия, которую пережила моя семья, то, чему я не была свидетелем, но что передалось мне в… чувствах.
Аликс спросила, что это была за трагедия, но она махнула рукой.
– Не сейчас. Потом как-нибудь – И она обратила наше внимание на дату картины: 1887. – Винсенту здесь тридцать четыре года.
На три года моложе меня, хотя мне он показался старше; потрепала его жизнь.
– Он написал их за те два года, что жил со своим братом Тео в Париже, – заметила Аликс, когда мы переходили от портрета к портрету: некоторые из них были написаны в одном году, но все были такие разные, что казалось, существовало несколько Винсентов. Наверное, так оно и было, в зависимости от его настроения и состояния психики. Я остановился у другой коробки из оргстекла, на этот раз с маленькой прямоугольной палитрой и несколькими частично выдавленными тюбиками краски, и на миг словно увидел Винсента, который водил большим пальцем по палитре, смешивая цвета. Я мог бы простоять там целый час, если бы Аликс меня не подтолкнула.
Наверху мы осмотрели нарисованные сцены крестьянской жизни и знаменитую мрачную картину Ван Гога «Едоки картофеля». Аликс заметила, что она похожа на «Карточных игроков» Сезанна, и это была правда, хотя Сезанн был сосредоточен на структуре, а Ван Гог – на эмоциях, возможно, поэтому он так многим нравился.
Каролин и Аликс обменивались историями о неудачной личной жизни Винсента, о его неразделенной любви к кузине, когда мы наткнулись на группу рисунков с черепами, которые я никогда раньше не видел.
– Memento mori, «помни о смерти», – сказала Каролин и перекрестилась, и тут же рассмеялась. – Странная привычка для еврейской девушки, но я росла католичкой. – Она объяснила, что не знала о своих еврейских корнях, пока не умер отец и она не нашла письма и дневник, которые он вел о жизни своих родителей.
Аликс рассказала, что ее бабушка с материнской стороны тоже была еврейкой. Она ее обожала; но бабушка умерла, когда Аликс была еще маленькой девочкой. Сама она тоже получила христианское воспитание, религия ее бабушки никогда не обсуждалась.
– Я узнала это про свою бабушку только в колледже.
– Семейные тайны… – вздохнула Каролин.
Я обратил внимание на то, как Ван Гог обрисовал один из черепов – мне это напомнило Жан-Мишеля Баския, знаменитого нью-йоркского художника, чья блестящая карьера была еще короче, чем у Винсента, и он тоже рисовал черепа. Каролин спросила, не искусствовед ли я.
– Нет, хотя и преподаю этот предмет. Вот Аликс у нас искусствовед. А я просто художник.
– Я тоже, – призналась Каролин. – Хотя в последние года я мало рисовала, потому что мои поиски поглотили всю мою жизнь.
Аликс спросила, что за поиски, но Каролин снова ушла от ответа, принявшись обсуждать пейзажи, на которых был изображен сбор урожая. «Цикл жизни и смерти», – хором сказали они с Аликс.
В соседнем зале Каролин остановилась.
– Вот это полотно. – Она указала на знаменитую картину с изображением спальни Ван Гога в Арле. – Первая версия. Есть еще две, одна в музее Орсе в Париже, другая в Художественном институте Чикаго. Но эта принадлежала моему дедушке. – Она стала проталкиваться через толпу, окружавшую картину, увлекая нас за собой. – Великолепная вещь, такая остроумная, такая уродливая.
И это тоже была правда, картина была преувеличенно неуклюжей: кровать и пол наклонены, цвета резкие – но через некоторое время она стала казаться нам красивой.
– Она принадлежала вашему дедушке? – недоверчиво спросила Аликс.
– У него было много работ импрессионистов и постимпрессионистов. Он был одним из величайших коллекционеров произведений искусства своего времени, любого времени, – ответила Каролин, и я ждал, что она расскажет еще что-нибудь о своем дедушке, но вместо этого она рассказала о том, как Винсент жил в Арле в желтом доме, и о его бурных отношениях с Гогеном, который поселился у него, но через шесть недель съехал.
– Он не выдержал постоянных споров с Винсентом. Вскоре после его ухода Винсент отрезал себе ухо.
– Завернул его и отдал проститутке, – вставил я.
– Да, – подтвердила Каролин. – Хотя на самом деле он нес его Гогену, чтобы показать ему, к чему привело его дезертирство. Он думал найти своего друга в борделе. Но ухо досталось какой-то бедной девушке! Можете себе представить?
– Вполне мужской подарочек, – заметила Аликс, и они обе рассмеялись.
Мы обошли остальную часть музея, все три этажа, мои глаза и разум были перегружены, ноги начинали