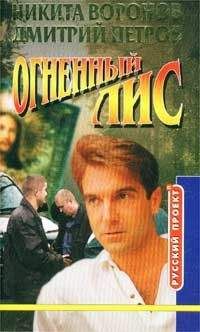— Ну-ка! Расскажи, за что и сколько тебе обломилось от нашего народного? Самого гуманного в мире?
Примерно в течение часа Рогов во всех подробностях излагал свою историю. При этом в ходе повествования виноватыми оказывались буквально все, кроме него самого.
— Ясно, — вздохнул полковник, когда рассказчик умолк. — Кругом сплошное свинство. Судьи — упыри, прокуроры — гниды, а уж следаки… Кстати, кто твое дело вел?
— Майор Бичкаускас. Я же назвал, вроде?
— Ах, да. Припоминаю… Редкостная скотина!
— Знаете его?
— Кто же не знает… Прибыл из Вильнюса год назад, и уже семь офицеров посадил. Впрочем, если с тобою — уже восемь получается.
У Виктора защемило сердце:
— Видели из них кого-нибудь?
— Да почти всех, милок. Почти всех. Кто ещё в СИЗО пока, кого уже на зону этапировали…
Резанув по нервам противным визгом, сдвинулся покрытый множеством слоев краски засов. Чуть пониже середины двери, под смотровым глазком открылось окошко-«раздача».
Заглянувший внутрь милиционер произнес:
— Ужин. Болотов, получите.
— Я не один, — напомнил полковник.
— Ну что вы, Валерий Николаевич, — замахал руками Виктор. — Не надо, мне есть совершенно не хочется.
— Не выдумывай! Это тебе не воля. Когда жрать потянет — в магазин не сбегаешь.
Он вновь обернулся к «раздаче»:
— Пожалуйста, разберитесь. Нужна ещё одна порция. Для новичка.
За дверью послышалась какая-то возня, звон посуды. И вскоре Рогов тоже получил еду: картофельное пюре и кусок жареной рыбы в алюминиевой миске. Хлеб, чай…
Прежде чем приняться за ужин, полковник внимательно осмотрел посуду. Пояснил:
— Здесь хоть и не зона, но все же… Поглядывай, чтобы ни на ложке, ни на шлемке дырки просверленной не оказалось.
— Почему?
— Просверленная посуда для «обиженных».
— Для кого? — Поднял брови Рогов.
— Ну, для пидоров, — пояснил бывший полковник медицинской службы. Возьмешь её, и по воровским понятиям сам заменехаешься.
— Ничего не понимаю.
Болотов поморщился:
— Ладно, потом… В общем, нельзя из посуды, предназначенной для педерастов кушать. Если, не дай Бог, такое случится и другие зэки об этом узнают — хорошо, если просто отвернутся от тебя, как от прокаженного.
Посуда оказалась «нормальной».
Пока Рогов устраивал на нарах импровизированный стол, для чего оказалось вполне достаточно расстелить газету, Валерий Николаевич взял от изголовья свою холщовую торбу. Порывшись, он извлек наружу кое-что из сьестных припасов: сырокопченую колбасу, домашние блинчики, огурцы в целофановой упаковке.
— Передача, — пояснил Болотов. — Жена через день носит, когда я здесь… Некоторые из местных деятелей деньжат подкинули — грехи замаливают. Боятся, как бы я лишнего говорить не начал.
Он сделал многозначительную паузу, но заметив в глазах собеседника только недоумение, вздохнул:
— Эх, молодой человек! Поживешь с мое — поймешь, на чем мир стоит. Но это потом будет, там, на воле… А пока, — Болотов подхватил двумя пальцами влажный, крепенький огурчик. — Пока, Виктор, давайте будем кушать, и меня слушать. А то вижу, в арестантских законах ты совсем зеленый. Всего, правда, и сам не знаю, но…
Беседа затянулась — впрочем, о том, что во дворе уже воцарилась сплошная темень, сокамерники могли узнать лишь по предусмотрительно спрятанным часам полковника.
Многое узнал в ту ночь Виктор о неведомой ему дотоле «тюремной» жизни. Что-то пугало, настораживало…
Но вместе с тем что-то непостижимым образом манило Рогова навстречу судьбе.
Сердобольный старшина, принимавший его накануне, обещание сдержал после завтрака в камеру Рогову передали совершенно новую, не ношеную робу.
Она была не совсем по размеру, великовата — но это казалось сущим пустяком по сравнению со всем тем, что свалилось на Виктора со дня гибели отца, и с тем, что ему ещё предстояло пережить.
Валерия Николаевича вызвали в тот же день, с вещами — и больше он в камеру уже не вернулся. Других «подселенцев» тоже никто не приводил. Очевидно, таким образом здешние милиционеры проявляли сочувствие, оттягивая сколько возможно встречу бывшего лейтенанта с остальными осужденными.
Болотов успел образно, в красках описать ему собственный опыт пребывания в заключении, увиденные за полгода сцены жестокости и насилия, которые разыгрывались порою из-за одного-единственного неудачно произнесенного слова.
Это было ужасно, но одиночество угнетало Виктора ещё больше.
Сутки тянулись за сутками, одинаковые и неразличимые в полуподвале, куда не далетал теперь даже отзвук оставшейся где-то там, далеко в прошлом свободной и обыкновенной жизни.
Там, в том мире остались вещи, привычные в обиходе и разбросанные по холостяцкой привычке на снятой молодым офицером квартире. Не выключен из сети магнитофон. На кухонном столе прокисает… нет, уже, наверное, прокисло и покрылось плесенью молоко в трехлитровой банке.
А как же Кобзон? Маленькая дворняжка приблудилась к Виктору совсем недавно. Добрая такая, ласковая… За каждый кусочек хлеба становится на задние лапки — ещё просит.
Мать… Мать в Ленинграде, и даже не знает о том, что он арестован. Что его больше нет для людей. Нет для нее. Нет — и не будет ещё долгие, долгие годы. Дождется ли мама?
Нет, Рогов не сетовал на судьбу. И жалости о том, что сделано, не было. Даже если бы сволочь Буравчик обьяснил подзащитному его права, никаких прошений о помиловании и кассаций Виктор все равно писать бы не стал.
И дело тут вовсе не в гордости…
Виктор скорбел об отце. Скорбел о себе, об утраченной свободе — и теперь, оставшись в одиночестве мог позволить себе ни перед кем не притворяться. Лежа на дощатых нарах, он по-детски закрывал лицо руками и горько плакал.
Один… Если, конечно, не считать милиционера, который каждый час шаркает туда-сюда за дверью, проверяя через глазок, не повесился ли сдуру этот пускающий слюни лейтенантик.
А впереди ещё пять лет! Пять непостижимо долгих, мучительных лет. В какой-то момент Виктор потерял счет времени, потом начал беседовать сам с собой. Казалось, ещё немного — и навалится окончательное безумие…
— На этап!
Команда прозвучала неожиданно, ранним утром.
Заухали о бетонный пол несколько десятков по-разному обутых человеческих ног, загремели засовы…
— Выходить! «Майданы» на пол, лицом к стене. Руки за спину!
Рогов, заняв указанное в шеренге место, искоса огляделся по сторонам. И какого же было его удивление и облегчение, когда вместо нарисованных воображением монстров увидел он вокруг себя обыкновенных, исхудавших, несчастных мужчин с тревожными глазами.
Молодежь, люди в возрасте, старики…
Следующая команда прозвучала после скорого, поверхностного обыска:
— По одному на выход. Шагом марш!
Люди мгновенно подхватили свои пожитки и друг за другом бросились по коридору в указанном направлении.
Возле металлических дверей группу принял незнакомый Рогову милицейский сержант с дубинкой:
— Вправо! Быстрее… Быстрее!
Команды следовали торопливой чередой:
— На выходе стоять! По одному… Первый пошел!
Перед Виктором возник грязный, глухой двор КПЗ.
Напротив ворот, уткнувшись одна в другую, замерли две спецмашины. Зарешеченные дверцы распахнуты, на поводках у конвоиров надсаживаются лаем собаки.
Настала очередь Рогова.
— Мне теперь идти?
Он ожидал услышать что-то вроде пресловутых фраз «шаг влево, шаг вправо — побег, стреляем без предупреждения…» Однако, его просто грубо пихнули в спину:
— Пошел! Чего меньжуешься? В левую машину… бегом!
Виктор подчинился, но ноги слушались плохо.
Куда подевались былые здоровье и сила? В военном училище курсант Рогов считался неплохим спортсменом, да и потом, на офицерской должности…
Первая же неделя в камере поставила его на грань нервного истощения и физической немощи.
Виктор попытался с ходу запрыгнуть на ступеньку, но тело не послушалось. Оступившись, он с выпученными глазами распластался на земле, перегородив собой проход.
Сразу подняться не получилось — мешали буханка хлеба и банка рыбных консервов в руках, выданные вместо сухого пайка на дорогу.
— Ну что же ты, земляк? Кувыркаешься… — Раздался дружный хохот сверху. Потом кто-то добавил:
— Прямо, циркач! Давай, шевели поршнями. А то схлопочешь от этих… прикладом промеж лопаток.
Виктор снова попробовал встать, но чья-то сильная рука уже подхватила его за шиворот и втянула внутрь фургона:
— Давай, циркач!
Окон не было, свет проникал только через открытую дверь, поэтому в спецмашине царил холодный полумрак.