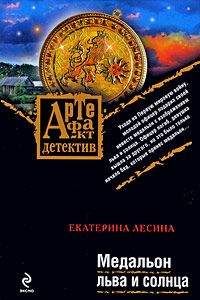Вениамин, сев так, чтоб видеть всех участников представления (а я не могла отделаться от впечатления театральности происходящего), положил руки на спинку стула, шмыгнул носом и произнес:
– Итак… ну… что сказать, точнее, с чего начать… во-первых, хочется поблагодарить господина Жукова и Марту Константиновну за своевременный сигнал.
Семен пробурчал что-то невнятное, благодарности на его физиономии я не заметила.
– Во-вторых, состав у нас не полон, посему… Татьяна… Танечка, солнышко, у тебя телефон есть?
Танечка кивнула и вытащила из кармана крохотный, в пол-ладошки мобильник в красном, переливающемся стразами корпусе.
– Спасибо. Танечка, а ты можешь позвонить маме?
– Зачем?
– Просто позвонить и дать мне трубочку. Не бойся, я сам с ней поговорю… на тебя ведь напали, верно? И маме нужно сказать об этом. Набери номер. Пожалуйста.
Танечка повернулась ко мне, в зеленых глазах блестели слезы, звонить ей совершенно не хотелось.
– Надо, Танечка. Ты же не хочешь, чтобы тебя забрали в милицию? – продолжал Вениамин. В этот момент он стал мне отвратителен. Какого черта он ребенка мучит? Ей и так плохо. Я могла лишь догадываться, что тут произошло. Почему Юра попытался убить Танечку? Кому вообще могло навредить это беспомощное существо?
Танечка, всхлипнув, набрала номер и послушно протянула трубку Вениамину, тот, приняв ее, поднес к уху, некоторое время молчал, верно, вслушиваясь в гудки, а потом тихим, вкрадчивым голосом произнес:
– Добрый день. Нет, это не Татьяна, это старший оперуполномоченный Шубин Вениамин Леонардович. Валентина Степановна, да, ваша дочь здесь, рядом, не волнуйтесь, с ней все в порядке… пока в порядке, – выразительно добавил он. – Вы не могли бы подъехать? Для выяснения обстоятельств? Хотя нет, погодите, лучше мы сами. Вы сейчас на работе, да? Вот и замечательно, просто великолепно, минут через пятнадцать будем. Да, на вашем месте я здорово подумал бы о сотрудничестве. Как говорится, чистосердечное признание… вот видите, как замечательно мы понимаем друг друга. Я просто уверен, мы сразу договоримся. – Захлопнув телефон, Вениамин сунул его в задний карман джинсов и, поднявшись, бодро объявил: – Распорядок меняется, место действия переносится. Семен, давай этого бойца в машину, вы, девушка, тоже с нами едете, а вы двое… – он усмехнулся. – А вы двое свободны. Благодарим за сотрудничество. Все, давайте, быстренько, освобождаем помещение и больше не лезем туда, куда не просят. Понятно?
Берег реки, знакомые песчаные залысины, одна узкая, длинная, до самого ивняка, вторая – ровным полукругом, будто циркулем чертили. У самой воды песок темный, набравший влаги, а чуть дальше – высушенный солнцем до яркой, почти неестественной желтизны. И, как в прошлый раз, дно видать, с песчаными складками, камушками, ракушками и водорослями, вытянувшимися по течению зелеными нитками. Марта сидит у самого берега, прямо на песке, сунув ноги в воду. Молчит. Уже сколько времени прошло, а она сидит и молчит. Поначалу Никита пробовал было заговорить, но она так глянула, что стало стыдно. Пришлось сесть рядом.
Жрать охота. И пить. Минералка, купленная утром в магазине, давно выпита, а вода в реке хоть и чистая на вид, но от этого только хуже.
– Жуков, – Марта пошевелила пальцами, по воде пошла мелкая рябь. – Скажи, Жуков, а почему все как-то… не знаю как. Ведь менты-то правы?
– Правы.
– И выходит, что мать этой Танечки виновата? Ну, она же меня подставила и убить собиралась. И тебя тоже. И задержать ее – правильно.
– Ну, наверное. – Жуков, зачерпнув воды, вылил на голову, ледяные струйки полились за шиворот, заставив вздрогнуть от холода. Хорошо.
– Ты – шут, Никита, – сказала Марта, отворачиваясь. – В этом твоя беда, ты – шут. Я тебе серьезно…
– А я о том, что нечего без повода сопли распускать. Ну да, раскрутят они мамашу через дочку, ну, надавят на светлые чувства, ну, соврут малость, воспользуются ситуацией, и что? Думаешь, что это подло? А сказать человеку, что он через три месяца – труп? И надежды никакой? Или медленно травить какой-нибудь дрянью? Или… не знаю, что они там еще делали, думаю, много чего. И тех утонувших вспомни, Дашку-Яшку…
Марта вдруг вскочила, почти бегом подошла к сумочке, брошенной на самом верху песчаной косы, и, судорожным движением расстегнув замок, вывалила содержимое на траву. Потом дрожащими руками – надо же, как нервничает, – подняла медальон.
– Дашка, – пояснила Марта. – Она. Больше некому. Она ко мне приходила с пирожками и тихо вошла, так, что я не сразу услышала. А сумочка на столике лежала. Она и бросила, а я не нашла. Ты нашел. Вот.
Диск, подвешенный сразу на двух цепочках, медленно вращался, то вспыхивая на солнце яркой желтизной, то почти угасая, становясь похожим на дешевую оловянную безделушку.
– Наверное, это нужно отдать. – Марта положила медальон на ладонь и пальцем провела по крышке со львом и солнцем.
– Кому?
– Не знаю. Кому-нибудь… Семену сказать, пусть разбирается. У Даши ведь есть наследники.
– Ну, было бы чего наследовать, а с наследниками, по-моему, никогда вопросов не возникало.
– Жуков, ты циничен.
– А ты стараешься думать сразу и за всех. Вон, помаду подыми, и вообще собирайся, а то жрать охота. Между прочим, трагедии трагедиями, а еда – едой. Нам, шутам, без еды не работается…
Фыркнув, Марта повернулась спиной, наверное, негодование выражала, ну и пусть. Никита лег на песок, вяло подумав, что тот прилипнет к мокрой майке и к волосам тоже и вообще потом спина будет чесаться… ну и ладно, ну и пусть. Зато по небу медленно катились облака, белые, кучерявые, словно нарисованные, и тени от них по земле тоже как нарисованные. А если прикрыть глаза ладонью, то можно поглядеть на солнце, как в детстве, давным-давно…
– Жуков. – Тень легла на лицо. – Жуков, ты что, обиделся?
Никита не ответил и глаза не открыл. Специально. Пусть думает, что обиделся. Марта, постояв, присела рядом и тихо-тихо сказала:
– Не обижайся, пожалуйста. Хотя бы ты… на меня… не обижайся. Ты не шут, я просто так сказала.
Я хотел бы быть шутом,
но не для тебя.
Пусть считают дураком,
говорят – нельзя,
говорят, шутов не любят,
ну никак,
бубенцами украшая
мой колпак.
Говорят – дурак не видит
ничего,
говорят – не будет жизни
у него.
– Прекрати, – Марта попыталась закрыть ладонью рот, но Жуков увернулся и, перехватив руку, опрокинул Марту на песок.
– Ты… Ты…
Я хотел бы быть шутом
и тебя любить,
но расстанусь с колпаком,
стоит попросить…
– Сбился, – пробормотала Марта.
– Ага.
У нее синие глаза, яркие-яркие, и облака в них отражаются, плывут, как по небу, и черные точки зрачков почти исчезли, растворились в синеве, а в уголках желтыми пятнами – солнце. Сразу два солнца.
– Господи, Жуков. – Марта коснулась его волос, стряхивая песчинки, провела подушечками пальцев по щеке. – Ты невыносим, Жуков… ты… ты на ужин успеть хотел.
Да ну его к черту, этот ужин.
«Говорят, что выехать из России теперь невозможно. И письма не доходят. Что же делать? Возвращаться? Я почти решилась, но имела серьезный разговор с отцом, после которого пребываю в задумчивости. Он прав, во всем прав, Людочку не вернуть, а я еще молода, красива, состоятельна, жизнь впереди… так стоит ли рисковать?»
Валентина Степановна ждала в кабинете, сидела, откинувшись на спинку кресла, выражение лица ее было спокойным и даже умиротворенным, правда, это умиротворение моментально исчезло, стоило войти заплаканной – по дороге с девушкой опять случилась истерика – Танечке.
– Мама! – Она бросилась к Рещиной и, уткнувшись в плечо, заревела с новой силой. – Мама… они меня в тюрьму посадят! Они… они…
– Не посадят, милая моя, не посадят, – Валентина Степановна грозно глянула поверх Танечкиного плеча. – Они шутили так. Давай успокойся. Вот так, вытри слезки. Иди умойся. Переоденься. Там в столовой пирожки испекли, с яблоками… вот умница. В ее присутствии говорить не буду, – это уже Веньке адресовалось.
– Ну так мы девушку и не задерживаем. Мы, в общем-то, к вам вопросы имеем.
– Видишь? – Рещина пригладила растрепавшиеся Танечкины волосы. – Они тебя не задерживают. Иди переоденься, посмотри, какое платье мятое, грязное, разве можно в таком ходить?
Когда Танечка вышла, Валентина Степановна одернула халат и, сев за стол, сказала:
– Извините. Вы… вы уже все поняли, так? Наверное, сразу. Наверное, глупо было думать, что выйдет иначе, но… но Танечка родилась такой. Нет, у нее не синдром Дауна, не олигофрения, и… в общем-то, у нее никаких отклонений, она просто дурочка. И, молодой человек, поверьте, это совсем не смешно.
– Простите, – Венька кулаком прикрыл улыбку.
– Танечка – наивный ребенок, который безоговорочно верит всему, что говорят, а когда выясняется, что ее в очередной раз обманули, рыдает. Нельзя ей без присмотра… Господи, о чем я говорю? Как она теперь будет?