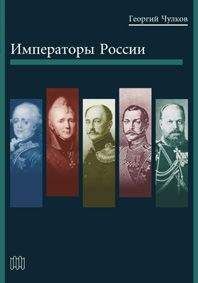Трудно было не удивиться:
— Любовные отношения супруги с соседом — и он тут же сидит в узком кругу гостей?
— Ох, Сергей, когда наш высший свет нравственным был? А здесь и не высший даже, а суррогат какой-то.
— Тогда возможен преступный сговор жены и любовника?
— Возможен, — спокойно согласился Казанцев. — Дала эта барышня еще одну неожиданную информацию.
Я навострил уши.
— Приносила она на стол блюда. Так вот, в начале застолья хозяйка пригласила гостей и мужа взглянуть в окно. В саду под окном садовник по ее приказу сотворил из цветков большой вензель мужа — всю первую половину дня трудился.
— А сама хозяйка...
Казанцев сделал мне знак потерпеть.
— Горничная услышала ее слова, когда уже выходила, но стулья за спиной ее задвигались. А теперь взгляните, как сидели они за столом, — он подвинул мне листок бумаги с прямоугольником посередине. — Это стол, с торцового его конца — дальнего от окна — сидела супруга, напротив — у ближнего к окну торца — супруг; двое гостей — посередине длинной стороны каждый.
— Дмитрий Петрович, выходит, когда мужчины направились к окну, оказавшись к хозяйке спиной... — я тут прервался для важного уточнения. — А что стояло в тот момент на столе?
— Бутылка шампанского и четыре полных бокала. А закуски горничная подносила на специальный отдельный столик, с которого потом переносила на стол.
— Странно, что начинали с шампанского.
— Горничная говорит, хозяин всегда начинал с бокала сладкого шампанского, считал — оно снижает аппетит, препятствует перееданию.
— Интересно, а как быть с недоеданием? — вырвалось у меня вдруг из каких-то глубин, очень может статься — от бабушкиной крестьянской крови.
На генерала вопрос мой неожиданно сильно подействовал.
— Правы-правы, Сергей. До добра бедность простого люда Россию не доведет. Скажу вам сейчас по секрету — кружки революционеров уже создаются. И там не беднота состоит: молодежь студенческая, у которой, казалось бы, только хорошее впереди, журналисты и прочие писаки наши. И попомните мои слова, нарастать оно будет подобно снежному кому.
Очень скоро я это «попомнил» — через год уже возникла «Земля и воля», вобравшая в себя за короткий срок более трех тысяч человек, и не слишком долго уже оставалось до первого покушения на царя — выстрела Дмитрия Каракозова. Перед покушением он написал прощальное письмо, не рассчитывая остаться в живых, письмо начиналось словами: «Грустно, тяжко мне стало, что погибает мой любимый народ...». Каракозов учился в Казанском и Московском университетах, недоучился из-за отсутствия средств, но по грамотному состоянию своему мог иметь не бедный отнюдь чиновный заработок. А дальше-больше — как снежный, именно, ком, и верховная власть будет видеть в том лишь испорченность нравов и некий крайний исключительный в обществе случай, не понимая своей несостоятельности и того хорошего в людях качества, что страдать они могут не единственно за себя самих.
Попрощавшись с Казанцевым, я отправился на купальни у Воробьевых гор, где вода много чище прочих московских мест, и где мы с дядей договорились встретиться после полудня.
Ах, как хороши Воробьевы горы плотно поросшие зеленью, вода прозрачная у песчаного берега ласково принимает ноги, потом всё тело, — хочется бесконечно лежать в ней, глядя в синее небо.
Я, вернувшись домой, чувствовал себя расслабленным совсем, не было ни к чему желаний, кроме покоя.
Однако же подступало время ехать к Сашке Гагарину.
Жил он на Поварской — самой аристократичной еще с Екатерининских времен улице Москвы — в родительском доме-усадьбе, родители выделили ему крыло с отдельным подъездом, так что обретался Сашка вполне независимо.
В восемь часов вечера слуга открыл мне дверь и сразу почти оказался я в объятиях своего приятеля.
К удивлению, вернулся он из Парижа совсем без следов гулянки: подтянутый, морда — с хорошим цветом лица.
— Я, знаешь, крепкого там ни грамма, только Бордо разных сортов, и сесть закусить там можно на каждом шагу. К улиткам пристрастился, представь. А сколько сы-ров! Хотел все перепробовать, ан не вышло. И Лувр! Серж, в Лувр надо сходить раз десять, а то и поболе.
Стол был нам уже приготовлен, с двумя бутылками привезенного вина; одно, объяснил Сашка, светло-красное — розовое почти; на уборке его винограда, растущего на своем специальном склоне, работают молодые девушки, среди них поощряются шутки и смех; другое — темно-красное, на уборке там работают семейные женщины, имеющие детей, обстановка работы — тихая и спокойная.
— Да, брат, обстоятельно люди к делам подходят. Попробуем сначала розового вина.
Я, сделав глоток, подержал чуть вино во рту... букет показался мне сочным и, правда, немного игривым.
Понемногу допили бокалы.
— И что я тебе расскажу, Сережа, вообрази — меня познакомили с Жоржем Дантесом.
— С самим Дантесом?
— Это такая громада! Получил пожизненного сенатора, один из лучших политических ораторов Франции. А когда знакомили нас, он сделал легкий поклон и не стал протягивать руку. Я потом очень оценил, не знаю, право, как руку пожать, которая Пушкина убивала. Ты как поступил бы?
— Ой, Саша, не знаю... нет, все-таки я б пожал. Нельзя обижать человека, если он с открытой душой. И не знаем мы, что двадцать с лишним лет в душе этой творилось.
— Верно, не знаем. Да и сам Александр Сергеевич не безупречен, мягко сказать. К тому же, отец говорил, в последние год-полтора он пить начал — раньше пары стаканов шампанского за вечер ему хватало, а тут стал серьезно закладывать. — Сашка махнул рукой: — А, бог им обоим судья, сейчас другую интересную вещь тебе расскажу.
Мы выпили еще «игривого», поели слегка, а затем я услышал весьма любопытное.
— На второй день, как приехал, — прожевывая начал Сашка, — отправился я к графине де Сегюр от отца письмо передать и от себя почтение засвидетельствовать.
— Позволь, к Софье Федоровне Ростопчиной, писательнице теперь французской?
— Ну-да, а ты сказки ее читал?
— Нет, но все хвалят ужасно.
— Расходятся по Европе как горячие пирожки. Очень милый она человек, я ее знаю, еще когда ребенком меня родители в Париж возили.
Дочь знаменитого графа Ростопчина давно вышла замуж за французского графа, а писать стала всего как несколько лет и популярной сделалась сразу.
— Да, вот, беседуем, и от легкости, наверное, что перед визитом «Бордо» выпил, спрашиваю про пожар Москвы 1812-го: дескать, известно всем, что батюшка ее Федор Васильевич загодя всё организовал и на второй день после восшествия французов Москва загорелась — отчего же, спрашиваю, важное это действие, выгнавшее неприятеля в чистое поле, батюшка ваш делом своих рук не признавал?
— Не обиделась твоей смелости?
Строго-то говоря, отдавало здесь больше бестактностью.
— И нисколько. Главная, отвечает, причина — в спешной невероятно эвакуации, много раненых наших солдат вывезти не успели и большая их часть при пожарах погибла. Говорила: всю жизнь оставшуюся отец очень это переживал, а первопричиной всё равно оставался Наполеон — так зачем признаниями помогать ему пятна чистить? И еще на другое указывала: Кутузов на запросы отца о необходимости срочной эвакуации отвечал, что решенья об оставленье Москвы не принято и того более: Государю донесенье отправил, что французы при Бородине полностью отброшены на начальные свои позиции, — обманул, просто сказать — сдвинули те нас с основных рубежей. Сам на следующий день отступил к Можайску, а через неделю войска через Москву прошли, оставляя город.
— То есть несколько дней для эвакуации были потеряны?
— Да не меньше — дня три.
Сашка еще добавил, что обрадованный обманным донесением Александр тогда именно присвоил Кутузову генерала-фельдмаршала и сто тысяч рублей даровал. А выходило — играл знаменитый полководец в свою игру, не занимая себя судьбой многих тысяч.
Конечно, надо еще разбираться, и сколько еще живых свидетелей, Слава Богу!
Возвращаясь домой по заснувшей Москве, я думал, что та прежняя эпоха не ушла насовсем — она рядом: продолжает жить в Сибири праведным старцем Император Александр I, а в Сырковом монастыре Новгородской области под именем Веры молчальницы пребывает его жена Елизавета Алексеевна, здравствует жена Николая I Белая роза, жива жена Пушкина Наталья Гончарова, хотя болеет, говорят, сильно легкими, а три недели назад Сашка сидел напротив Жоржа Дантеса, но все-таки та эпоха уходит и движется ей навстречу нам неизвестно что; Москва спит, нечувствительная к огромным событиям, а они будут такими, потому что на смену огромному всегда приходит масштабом такое же, однако по сути другое, и меня вдруг касается страх, оттого что сути этой совсем я не понимаю.