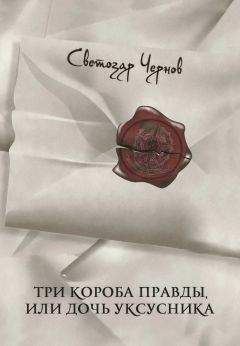— Ох, батюшки, я сейчас спущусь.
Сверху на Фаберовского и Артемия Ивановича посыпались полуобъеденные пряники и конфетные обертки. Затем стал выдвигаться внушительная авдотьина корма, обтянутая шерстяной заплатанной юбкой.
— Сидите, сидите там, Авдотья Петровна, — поспешно сказал Артемий Иванович.
— Что бразилец? — спросил поляк.
— Уехавши только что, четверти часа не прошло, — сказала Авдотья и продемонстрировала огромные кондукторские часы черного металла. — А его прислужник, долговязый такой, с усами, что птиц ему все время носит, тотчас в кондитерскую отправился, и посейчас там. А вот что дома делается — не видать, пока свет не зажгут.
— Видим мы, Авдотья, что не манкируешь ты своими обязанностями, — торжественно сказал Артемий Иванович. — Потому решил его превосходительство наградить тебя особой зрительной трубой.
— Правда?!
— Вот тебе крест!
— Да, это так, — подтвердил Фаберовский. — В дополнение к твоей эмеритуре.
— Вот видишь, как тебе повезло! — сказал Петушков и благоговейно принял у Артемия Ивановича окуляр от микроскопа, чтобы передать сестре. — Тут буквами иностранными написано: «Карл Цейс, Йена». Не меньше пятидесяти рублей стоит. Я тебе когда еще говорил — займись делом! Что попросту на шкафу матрас протирать… А тут тебе эмеритура, и труба подзорная… А у нас пенсию вон сколько выслуживать надо!
— Ну как? — спросил поляк, когда Авдотья взяла у брата окуляр и приставила к глазу.
— Ух, как видать! — сказала она и перевернула окуляр другим концом. — А так даже еще лучше!
— Премного благодарствуем, — сказал Петушков.
— Ну, раз видать — то виждь. Мы еще придем, — сказал Артемий Иванович, и они покинули квартиру Петушковых.
— Чего она там увидела? — недоуменно спросил поляк, когда они вышли на улицу.
— Сам не пойму. Я и с одной стороны смотрел, и с другой — ничего не видать, муть одна. Но может у ней со зрением плохо? Я в твои очки тоже ни черта не вижу, а ты вон как сыч в шубе — наскрозь видишь.
***
Уже два дня генерал-майорша Сеньчукова лежала в гатчинском Придворном госпитале в беспамятстве, и все это время дочь ее Вера ни на шаг не отходила от матери.
Накануне вечером положение ее было столь опасным, что доктор Надеждин посоветовал пригласить священника. Тот явился со всей справой и запасными дарами, но больной полегчало, и с соборованием решили повременить. Однако Мария Ивановна все еще не разговаривала, хотя ее стеклянный взгляд иногда уже приобретал вполне осмысленное выражение.
После обеда в госпиталь прибыл пожилой чиновник, представившийся титулярным советником Аполлоном Александровичем Жеребцовым из сыскного. Он с разрешения дежурного врача прошел вместе с Верой в палату, убедился, что вдова полицмейстера ни к каким разговорам неспособна, просмотрел скорбный лист, висевший в изножье кровати, и предложил Вере Александровне побеседовать где-нибудь наедине. Вера, которая смертельно устала за двое суток, проведенных в больнице, ухватилась за это предложение, и они пошли пешком к ней на Бульварную.
Принадлежавший еще недавно генерал-майорше дом был обычным пригородным двухэтажным строением, с мезонином и балкончиком с резными балясинами, с зелеными воротами и дощатым забором, с кустами малины, укрытыми сейчас почти до верхушек снегом, и крыльцом, украшенным затейливыми витыми столбиками, которые, однако, все были ощипаны на лучины для самовара.
— Мне бы, Вера Александровна, чайку бы, намерзся, пока с Балтийской станции до госпиталя пешком шел, — сказал Жеребцов, когда они сняли пальто в сенях и прошли в гостиную.
— Да, Аполлон Александрович, нынче не советуют на Варшавскую ездить, говорят, там какие-то лихие люди лютуют, на днях весь наш кирасирский полк подняли на подмогу жандармам, чтобы их унять.
— У вас тут курить можно?
— Нет, матушка не дозволяет курить в доме.
— Ладно, попозже на веранду выйду. Вы мне вот что скажите, Вера Александровна: вы кого-нибудь из этих двоих мазуриков знаете? — спросил Жеребцов, когда его усадили за стол.
— Одного знаю.
— Да что вы! — дернулся чиновник. — Расскажите-ка мне поподробнее.
— Это было почти двадцать лет назад, когда батюшка служил полицмейстером в Петергофе. Учитель рисования в тамошнем городском училище обрюхатил нашу прислугу, Настасью Нестерову, и оклеветал в этом батюшку. Фамилия его была Владимиров, звали Артемием Ивановичем. Вот он и ехал с нами в поезде. Я бы его не узнала, так его признала сама Настасья.
— Она у вас до сих пор служит? — изумился Жеребцов.
— Какое там! Она у брата в участке в Полюстрово кухаркой, а сын ейный делопроизводителем там же. Этот Владимиров у них в участке на Рождество вдруг арестантом объявился.
— Пострадал ли тогда за свою клевету г-н Владимиров?
— Нет, не пострадал, время-то какое тогда было — на нас все адвокаты набросились. Едва батюшку не засудили. Этот Владимиров пролез к фрейлине Шебеко, снимавшей дачу как раз забор в забор с частью, а вы сами знаете, чья она подруга тогда была.
Жеребцов покраснел. Ему было неудобно, что малознакомая порядочная барышня упоминает вслух о любовнице покойного Государя Императора княжне Долгорукой.
— В общем, еле отбились, — продолжала, как ни в чем не бывало, Вера. — Батюшка у нас человек добрый был, благородный, Настасью за городового выдал, чтобы грех ее с учителем покрыть, и учителя не стал преследовать, он до самой батюшкиной отставки продолжал в училище служить. Потом он куда-то исчез, и что было с ним дальше — неизвестно.
— А было ли у вашего отца богатство?
— Да какое ж у нас богатство! Пожиток всех у нас на одну подводу едва набралось. Мы же в Петергофе служили — там не попользуешься. Там тебе решето крыжовника поднесут, а тебя за это на следующий день сквозь это же решето и просят. Нам еще ничего, повезло, а вот при Государе Николае Павловиче совсем тяжко было. До батюшки полицмейстером полковник Волков был, так он когда помер, после него три дочери-сироты остались совсем без средств, и когда б Государь им не назначил по полторы сотни рублей пенсии, идти бы им на панель. Аполлон Александрович, давайте выпьем за здоровье матушки? Самовар-то ставить надо.
— С удовольствием.
Пока Вера готовила на стол, Жеребцов расспросил ее об обстоятельствах появления г-на Владимирова в Полюстровском участке, выходе его на свободу, о его сообщнике и о произошедшем в поезде. Выпив водки, Вера вдруг разрыдалась.
— Ну что вы, Вера Александровна, Бог даст, и матушка ваша поправится, и злодея вашего в Сибирь отправим. — Жеребцов погладил ее по голове.
Она схватила его за руку и уставилась на него покрасневшими мокрыми от слез глазами.
— Я, должно быть, ошиблась во сне, Аполлон Александрович, не межевого ведомства он был… — зашептала она горячо. — Может у него и звезд не было… Все такое смутное было… Но я уверена, что там вы были…
— Где я был? — не понял Жеребцов.
— В зеркале. Послушайте, Аполлон Александрович, матушке вчера священника вызывали, боюсь, призовет ее господь. А она мне 10 тысяч оставила. Так что партия я не плохая… Возьмите меня замуж!
— Да как это… — смутился Жеребцов и отобрал у Веры свою руку. — Да я же некоторым образом… Это же положено обдумывать как-то…
— Да вы возьмите меня, а потом подумаете! — Вера попыталась его обнять.
— Нет, я… позвольте, я перекурю сперва… — Жеребцов вскочил и опрометью бросился за дверь.
«Она не в себе, я не могу воспользоваться ее состоянием, — бормотал он про себя, доставая портсигар. — Хотя, черт возьми… Разве она не видела, что у меня кольцо?»
Он задумчиво снял его и положил рядом с папиросами в портсигар. Когда он вернулся, Вера, уронив голову на руки, сложенные на столе, уже крепко спала.
***
После обеда Артемий Иванович собрался наконец ехать в церковь договариваться о говении. Церковь Св. Великомученика Пантелеймона находилась неподалеку от Цепного моста, на углу Пантелеймоновской и Соляного переулка, здесь служил знакомый кухмистера священник отец Николай Дроздов. Было морозно, ветерок лениво крутил на улицах падающий снег. Артемий Иванович выбрался из санок и мимо дрожавших от холода нищих вошел в храм. После столпотворений на рождественские праздники церковь была практически пуста, только у ктиторского ящика стояло несколько человек и горели свечи. Слева от входа какая-то старушка в полной темноте клала поклоны. Артемий Иванович подошел к ящику, купил у дьякона пятикопеечную свечку — поставить папеньке своему за упокой, — и спросил, где ему найти отца Николая. Священник оказался сухоньким старичком, раздражительно ответившим «Именем Господним», когда Артемий Иванович подошел к нему под благословение.
— Мне, батюшка, очень жениться надобно, просто позарез, — сказал Артемий Иванович. — Видите, как у меня сквозь штаны колом выпирает? Это шестизарядный револьвер, называется — прости, Господи, в доме Твоем, — «веблей». Потому как я агент царской охраны.