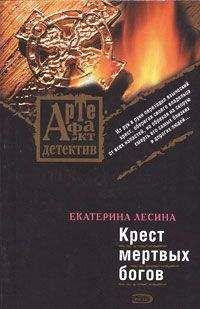– Не успеем до темноты, – Мишка пританцовывал, сгоняя холод. – Может, Сергей Аполлонович, хватит? Закидаем сверх все?
Я подошел к яме, глубина локтя на два, в ширину и длину вроде бы как тоже нормально. Сойдет.
– Все! Лопаты бросить! Кому сказал! – Гришка для острастки пальнул в воздух. Я отошел к машине, не люблю смотреть, как это происходит, привыкнуть – привык, но вот смотреть все равно не люблю. Черное небо сыпало снегом, черное небо заметало следы, убирало за нами, завтра поутру это место вернет себе прежнюю чистоту.
Жаль, люди так не могут.
Домой я вернулся за полночь и, увидев Никиту, признаться, удивился: в последнее время тот предпочитал ночевать в своем кабинете, а тут вот пришел.
– Ну как? – Озерцов поставил на стол бутыль самогона – хоть что-то за эти три года осталось неизменным – и два стакана.
– Отработали. Скоро снова?
– Да.
– Много сегодня. – Я снял шинель и поежился. До чего же тут холодно. Потрогал стену, вроде бы теплая, значит, топят исправно, но тогда почему холодно?
– Много. – Никита разлил самогон, подвинул один из стаканов мне. – И с каждым разом все больше. Как ты думаешь, Сергей Аполлоныч, кто виноват, что их так много? Ведь все же верно, все правильно, все по закону… я соблюдаю. Ты тоже. А они нет. Почему?
– Может, у нас законы разные? – Самогон по-прежнему дрянной, едкий, отдающий древесными опилками, зато по крови моментально растекается пьяное тепло. – Для тебя один, для них – другой. Они – овцы, паства, ты – пастух.
– А ты?
– А я тот, кто служит пастуху. Собака, наверное. Только и пастух и собака в равной мере живут за счет овец, когда просто шерсть стригут на продажу, когда режут… главное, чтоб овцы об этом не догадались. – Я говорил то, что приходило в голову.
– П-почему? – Никита уже опьянел, при его истощенности пить ему нельзя, но не пить – невозможно.
– Потому, что из повиновения выйдут. Их же много, больше, чем пастухов. – Я закусил выпитое куском хлеба, который по странности тоже имел привкус древесных опилок… и тут же подумалось, что о привкусе этом я знать не могу, поскольку в жизни дерева не пробовал.
Смешно.
И с пастухом смешно… и с собакой… смех клокотал в глотке, вырываясь наружу воем, за который было стыдно и страшно, оттого, что схожу с ума… сошел с ума, заразившись всеобщим бешенством.
Значит, и меня скоро пристрелят.
Никита молча разлил остатки самогона.
– Знаешь, Сергей Аполлонович, – тихо сказал он, раздирая пальцами хлебный ломоть – крошки сыпались на стол, совсем как сегодняшний снег из черного неба, – а мне больше жить не хочется…
Костя ни при чем. Костя не виноват. В чем не виноват? Не знаю, но ведь не зря же этот, из милиции, задавал вопросы. А я отвечала, рассказывала, предавала друга. Или не друга?
Не знаю, не знаю, не знаю! Запуталась.
Стекло хрустит под ногами, хрупкое ненавистное зеркало, в котором живет мое отражение. Костик предлагал избавиться от зеркала.
И от Данилы.
Костик заботливый… чрезмерно заботливый, до оскомины… постоянно напоминает о том, что я больна… лелеет мою болезнь, подкармливает своим вниманием, нашептывает о беспомощности… Костик – единственный человек в моем одиночестве.
Был единственным, до появления Данилы, и оставался бы долго, ревностно охраняя меня от утомительных знакомств, случайных романов и болезненных встреч со старыми знакомыми. Костик позволял мне оставаться мной.
Саморазрушаться.
Костик… знаю ли я Костика?
И почему не берет трубку? На всякий случай я набрала его номер еще раз.
– Привет, Ян, – он ответил после третьего гудка. Я считала, я всегда считаю, когда хочу успокоиться. – Случилось чего?
– Случилось. – Секундная слабость и решение. – Я все знаю. Приезжай.
Он приехал. Я сидела на подоконнике с чашкой безвкусного кофе, наблюдая, как суетливо мечется по двору Костикова «Мазда», пытаясь отыскать место для парковки. Я вместе с часами отмеряла секунды до встречи.
Раз, два, три, четыре… беззвучно хлопнула дверь, игрушечное авто внизу моргнуло фарами, а крошка-человечек заспешил к подъезду.
Десять, одиннадцать, двенадцать… теперь хлопнула другая дверь, та, которая в подъезде. И Эмма Ивановна, оторвавшись от журнала, поздоровалась. И может быть, спросила о погоде. Костик не ответил.
Костик спешит.
Пятнадцать, шестнадцать… створки лифта стали вратами ада. Оставь надежду всяк сюда входящий. Костик оставил… или нет? Сейчас узнаю.
Двадцать один, двадцать два… кабина медленно плывет вверх. Он, наверное, нервничает, а вот я спокойна.
Двадцать девять, тридцать… звонок в дверь. Вежливый.
– Ну? – Костик хмурится и щурится. Костик улыбается той самой кривоватой улыбкой, которая так хорошо мне знакома. И ямочка на подбородке знакома. И порез на щеке почти родной. Он часто режется и по старой привычке заклеивает порезы кусочками газеты, чтоб не кровили.
Хирург. Убийца. Мой друг.
– Ты чего, Ян?
– Кость, а я ведь догадалась. Обо всем догадалась.
Он толкнул меня, захлопнул дверь и замок проверил, закрылся ли. Закрылся. Ловушка.
– Догадалась, значит? – повторенный вопрос, внимательный взгляд и липкий-липкий страх, которого еще секунду назад не было. – Зачем ты догадалась? И как? Ты же не интересуешься новостями… да и в новостях не было, я смотрел. Я каждый вечер садился и смотрел, все думал, когда покажут…
– Что покажут? – Я отступала в глубь квартиры, сдавала позиции. Стекло хрустит под ногами, сыплет светом в стороны, и Костик жмурится, ладонью заслоняясь от солнечного пятнышка, скользнувшего по глазам.
– Их покажут. Мальчишек, которых… которых… – он запнулся, а я помогла.
– Ты убил.
– Убил. Я не хотел… я думал, случайно, а потом… потом это началось… Яна, ты ведь поможешь мне? Я не сумасшедший! Я не могу быть сумасшедшим! Я… я только хотел, чтобы они умерли… и они умерли.
Я споткнулась о кресло. И упала в ловушку из металлических труб и белой кожи. А Костик остановился рядом, близко-близко… слишком близко, чтобы безопасно. Распахнутая рубаха, светлая, а кожа, наоборот, темная, загорелая, и капелька пота скользит по шее.
Костя – убийца. Он сам признался, что убийца.
– Сколько их было?
– Пятеро… шестеро… не помню, Яна. Я ничего не помню.
– А зачем? Ради денег, да?
Ради составленного мною завещания, которое вдруг стало приговором. Сначала Наташе, потом Даниле, заодно и мне… и все мое имущество, движимое и недвижимое, достанется Костику. Лучший друг и хитрый враг. Но почему он выглядит настолько растерянным?
– Деньги? При чем здесь деньги? Нет, Янусь, ты… ты не понимаешь. Денег не надо… нет, надо, всем надо, но ведь я зарабатывал. Я хороший врач, я очень хороший врач. Я мог бы уехать, ведь приглашали же… Франция и Швейцария… даже Америка. А я остался, я не хотел, чтобы только за деньги, я помогать хотел. Людям помогать. Понимаешь теперь?
Не понимаю и не хочу понимать. Я совсем потерялась. Запахи, цвета, вкусовые ощущения – это все, оказывается, не важно, мир совсем другой, мир больной и сумасшедший, и способность к восприятию этого безумия лежит за гранью ощущений.
Равно как и за гранью разума.
– А получилось, что, помогая, я начал задумываться. Добро и зло… белое и черное. Делай что должно, и свершится, чему суждено. Знаешь, я ведь поначалу и вправду верил, что творю добро, в то, что не важно, кто перед тобой, ибо все в равной степени заслуживают помощи и участия.
– А на самом деле?
– На самом деле сегодня к тебе привозят бритоголового мальчика, избитого и несчастного, и ты жалеешь, тянешь его, шьешь, радуешься, видя, как он выздоравливает. Чувствуешь себя почти Богом и даже больше – ты сохранил жизнь человеку. А спустя неделю привозят девочку, изнасилованную, избитую, почти потерявшую связь с реальностью, потому как в вымышленном мире ей спокойнее и нету боли. И узнаешь, что девочку эту насиловали и избивали бритоголовые мальчики, одного из которых ты вернул к жизни своими собственными руками. А за что они с ней так? За то, что нерусская. Или иногда бывает, что не девочку везут, а тоже мальчика, тоже молодого, но с раскроенным черепом, многочисленными переломами и обширными внутренними повреждениями, и вытащить его не получается. Он умирает. За то, что нерусский, – умирает. А потом привозят скина, и приходится, наступив себе на горло, лечить. Милосердие… к людям, мать их, милосердие. Неотъемлемое право врача.
Костик горел гневом, мой незнакомый знакомец, недружелюбный друг, человек, который собирается убить меня во имя каких-то высших, недоступных пониманию идей.
Убьет, непременно убьет. Свидетелей убирают, и Принц не поможет, Принц Костика считает своим.