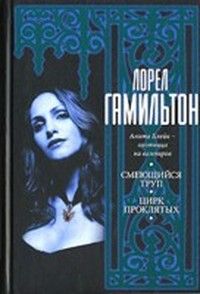И вот осталось двенадцать часов, они сидят рядом в просторной приемной в центре Колумбуса. Они нужны друг другу, как нужно бывает чье-то плечо, когда уже хочется лечь и сдаться. Они устали, работали всю ночь и сознавали, что их шансы повлиять на ход событий почти нулевые; смертный приговор Джону Мейеру Фраю стал важнейшим делом для всего Огайо; его смерть должна была показать торжество справедливого возмездия.
Женщины крепко сжимали пачку бумаг, они были почти совсем одни в огромной приемной, которая казалась чересчур большой — зеленый мраморный пол и нечто вроде античных колонн у центрального входа.
Они не сдались.
Они подготовились и вот-вот произнесут свою последнюю речь перед Верховным судом штата Огайо. А потом прыгнут в машину и помчатся в Цинциннати — в Апелляционный суд Шестого округа США. Джон Мейер Фрай уже один раз умер и выжил, значит, это может повториться еще раз.
Это еще не конец. Совсем даже нет.
Когда Джон встал и с завещанием в руке повернулся к видеокамере, группа наблюдавших срочно поставила в известность Вернона Эриксена. На момент приведения приговора в исполнение осужденный должен быть здоров и невредим, а этого заключенного уже начала поедать смерть. Вернон помчался по холодным коридорам с запертыми дверями, когда он добрался до Дома смерти, то попросил одного из охранников впустить его в камеру к человеку, которому осталось жить двенадцать часов. Он сел на стул перед ним и завел разговор о самых разных вещах, кроме смерти, голоса их звучали приглушенно, порой Вернон клал руку Джону на плечо.
Охранники следили за их беседой сквозь помехи на черно-белом мониторе и видели, как умело их начальник смог успокоить впавшего было в панику приговоренного к смерти. Но они не уловили близости между ними и не заметили, с каким удивлением Джон слушал признание Вернона в том, какую большую роль тот сыграл в его побеге. Они также не могли слышать, как осужденный вдруг начал благодарить человека, приставленного охранять его до смертного часа, за эти дополнительные шесть лет жизни, за то, что этот человек, которого он почти не знал, рисковал всем, чтобы дать ему возможность продолжать дышать.
Эверт Гренс нисколько не устал. Сон переоценивают. Он продолжал ходить в коридор за кофе, пока ночь сменялась сумерками, а потом утром, и все, что у него было к началу дня, — это неуемная энергия, порожденная тревогой и яростью, которым было тесно внутри него, и они рвались наружу. Он вызвал Свена, бледного от бессонных часов, и попросил пойти с ним в центральную диспетчерскую — два месяца интенсивного слежения СМИ за принятием политического решения о выдворении задержанного, приговоренного к смертной казни с уже назначенным сроком исполнения приговора, должны были сегодня достигнуть своей кульминации. Ожидались многочисленные, заранее заявленные демонстрации и яростные несанкционированные акции протеста. Гренс расположился в комнате, сменив одного из операторов, и, когда пришел первый запрос из американского посольства, с требованием прислать полицейское подкрепление, чтобы сдерживать все увеличивающуюся толпу, угрожающую вот-вот ворваться на территорию миссии, он взял трубку и спокойно ответил: «Sorry, no cars available».[19] Проигнорировав тревожный взгляд Свена, он переключился на следующий разговор. Когда испуганный сотрудник посольства описывал все более угрожающую толпу демонстрантов, он ответил точно так же: «Sorry, no cars available». Третий раз, когда в трубке послышались громкие крики демонстрантов и сотрудник в истерике взмолился о помощи полиции, Эверт Гренс с улыбкой прошептал: «Then call in the marines»[20] — и повесил трубку.
Хелена, ее сын Оскар и свекор Рубен во время своего последнего совместного посещения тюрьмы получили от Вернона Эриксена разрешение на свидание с осужденным в его камере в Доме смерти. Тогда они смогут увидеть его через довольно редкую решетку в стене, а не сквозь стеклянное окно в квадратной стальной раме, через которое обычно посетители общались со смертниками в последний день.
Тем, кто наблюдал это свидание на мониторе, было трудно понять, почему они совсем не разговаривают, казалось, они просто сидят друг напротив друга — Джон Мейер Фрай на стуле перед запертой дверью, а его семья — в коридоре снаружи. Посторонние не понимали, что только этого им и хотелось: просто быть рядом, никаких слов, все уже сказано.
Торулф Винге пришел из своего дома на Нюбругатан в министерство иностранных дел на площади Густава-Адольфа задолго до рассвета. Судя по всему, ему предстоял еще один долгий день — еще больше телекамер, еще больше вопросов.
Этот день, которого он ждал с нетерпением.
Когда он пройдет и наступит ночь и темнота, закончатся эти два проклятых месяца. Ему стукнуло шестьдесят, всю свою взрослую жизнь он провел в коридорах власти и смог отбиться от некоторых глупостей, скрыть в дипломатической тени десятки скандалов, своим посредничеством предотвратить в зародыше кое-какие национальные и международные кризисы. Но этот чертов убийца девчонки, он перечеркнул все это! Порой вечерами, когда на время отступала ненависть, Винге спрашивал себя: а не начал ли он уставать, может, силы ему уже изменяют, может, он просто-напросто состарился. Что ни день — новые заявления, новые интервью, рейтинги мнений, требования отставки. А все из-за этой злополучной высылки опасного преступника. Газеты, телевизионные каналы, их хлебом не корми, читатели, зрители — они такие вещи обожают. И все это тянется и тянется, разве что когда Фрая казнят, может, все и закончится, может, тогда весь интерес пропадет.
Он услышал крики демонстрантов, наполнявшие площадь перед зданием: «Швеция — убийца». Они скандировали это беспрерывно с самого обеда: «Швеция — убийца!» Как только у них сил хватает, что ли им нечем больше заняться, разве они нигде не работают?
Торулф Винге отошел от окна и вернулся к письменному столу, сегодня он не станет отвечать на вопросы, останется сидеть в своем кабинете в министерстве, а когда крикуны разойдутся и когда свершится казнь, он пойдет домой.
Три охранника, следившие за Джоном Мейером Фраем при помощи видеокамеры, установленной в Доме смерти, только было расслабились, как вдруг один из посетителей, пятилетний ребенок, вырвался из рук мамы и подбежал к решетке, отделявшей его от отца. На черно-белом мониторе было четко видно, как к мальчику бросился начальник охраны и попытался отцепить ручонки от прутьев решетки, он тянул ребенка за одну руку, а подоспевшая мать — за другую. Звук на пленку не записывался, поэтому они не слышали голосов, но малыш рыдал, лицо его сморщилось, и мама непрерывно что-то ему повторяла, прошло две-три минуты, прежде чем мальчик разжал руки и лег на пол, поджав колени к груди.
Среда. День,
15.00
Осталось шесть часов
Прошло всего два месяца с тех пор, как Джон сошел с парома вместе с пассажирами, которые несли пластиковые пакеты с беспошлинной водкой «Абсолют» и смущенно поглядывали друг на дружку. Тогда он мечтал поскорее попасть домой, торопливо шел по тротуару, пахнущему сыростью и углекислотой, пока в нетерпении не остановил такси, которое отвезло его к многоэтажному дому номер 43 по Альпхюддевэген. Он жил там с женой и сыном, и эта жизнь могла бы продолжаться.
Они поужинали рисовой запеканкой с черничным вареньем. Это был выбор Оскара: папа уезжал и вот вернулся, и теперь будем есть все вместе, это самое радостное, что он знал.
Было трудно глотать.
Джон сидел над тарелкой, подняв ложку, сине-белая масса в ней словно разбухала все больше по мере приближения ко рту.
Последний ужин.
Какой идиотизм! Человек, которого через шесть часов казнят, должен выбрать, что будет у него в желудке на момент возможного вскрытия. Он отказался: зачем есть, если все равно скоро все кончится. Но Вернон, начальник охраны, был убежден, что это важно, если не для него, то, по крайней мере, для его близких: они хотят быть уверены, что все нормально, а еда, она-то как раз и свидетельствует об этом в куда большей степени, чем Джон себе может представить.
Он выбрал рисовую запеканку, которую так любил Оскар. И на самом деле постарался ее съесть. Но стоило ему сделать первый глоток, как она застряла у него в горле, — поесть он так и не смог.
Джон попросил Вернона Эриксена посидеть с ним. Он умный, они вели беседы еще тогда, когда Джон семнадцатилетним подростком оказался в тюрьме, в отделении для осужденных на смерть. Джон знал, что такая задушевность охранникам запрещена, и они никогда не разговаривали, если их могли подслушать. Теперь, в этой камере, люди, следившие за ними с помощью видеокамеры, видели лишь, что сотрудник тюрьмы делает все возможное, чтобы успокоить заключенного перед предстоящей казнью.