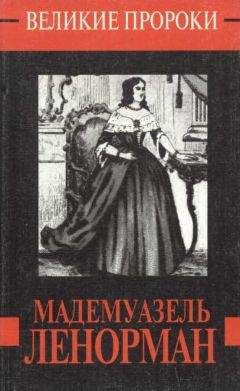Пошлость какая!
– Анна… – прошептала она, протягивая руки.
– Прекрати. Это совершенно несмешной розыгрыш. Чего ты добивалась?
Мари не стала притворяться и просто ответила:
– Того, чтобы ты пришла сюда.
Дверь за спиной Анны закрылась.
Она не одна. Ну конечно… кого ждала Ольга в тот день? Ференца? Или Франца, которому решилась открыть правду о своей беременности? Или слова о свидании были ложью?
– Ты ее убила. – Анна поняла, что ничуть не боится этой женщины. – Ольга волновалась, верно? И попросила вина. Ты же знала об этой ее дурной привычке.
Мари вытащила платок и принялась вытирать лицо, но лишь размазала грим.
– Ты подала вино, а заодно вылила в него весь флакон сонной настойки. Ты знала, что она уснет и не проснется…
– Знала, – согласилась Мари.
У нее не лицо – маска, расписанная белым, черным и красным цветами, искаженная злобой и отчаянием.
– За что?
– За то, что у нее было все, а у меня – ничего. Это ведь несправедливо!
Анна отступила к двери.
– Уйти не получится, – Мари покачала головой. – Прости, но ему нужен виновный. Он ведь не успокоится…
– Я сильнее.
– Конечно. – Мари сняла светлый парик и, сдернув покрывало с ближайшего короба, сунула парик в него. – Ты сильней, но… Анна, скажи, разве у тебя не кружится голова? И слабости ты не ощущаешь?
Теперь ее голос доносился издалека, и сама она непостижимым образом превратилась в крохотную фигурку, которую на ладонь бы поставить, а с ладони – на шахматную доску.
Францу нравятся шахматы.
– Что… со мной…
– Помните, – раздалось сзади, и крепкие надежные руки подхватили ее, не позволив упасть, – я рассказывал вам о травах? Есть такие, которые, сгорая, рождают ядовитый дым… их можно смешать, к примеру, с воском.
Свеча.
Свеча горела, когда Анна вернулась в комнату. Но кто зажег ее?
– Почему? – Губы еще слушались, хотя слабость овладевала всем телом Анны. Еще немного, и она, Анна, упадет.
– Из мести. Ольга не только отвергла мою любовь, но и воспользовалась ею… Я просил о встрече с ней. Хотел поговорить. И если бы она извинилась, если бы раскаялась в том, что пользовалась мной, я бы простил. Но Ольга рассмеялась мне в лицо, мол, если я сам такой дурак, то нечего других винить.
Анну усадили.
– И если бы не затея вашего неугомонного дружка, – Витольд достал веревку и принялся завязывать узел, – на этом все бы закончилось. Но ему нужен виновный. И он его получит. Сегодня вы, Анна, отравите мадам Евгению… не ошибусь, сказав, что вы привезли яд с собой, в синем флаконе. Вас замучила совесть, и вы хотели признаться, но не смогли… бывает… вы отдали свой яд ей. А сами…
– Нам жаль, Анна…
Не жаль ничуть! Но голова кружится. Господи, как сильно кружится голова… и выходит, что ее, как и Ольгу, сочтут самоубийцей?
Франц не поверит.
– Поверит, – эхом ее собственных мыслей отозвалась Мари. – Ты ведь записку оставишь, что просишь прощения, но совершенный грех не дает твоей душе покоя…
Записка… Анна не станет ее писать!
– Писать не надо, – Витольд ласково погладил Анну по волосам. – У Мари имеется скрытый талант… множество скрытых талантов. Ты не представляешь, до чего она умна, маленькая моя женушка… проницательна. И выдумщица большая. Мы с ней поговорили, еще тогда, перед свадьбой Ольги. Мари так плакала. Ей вовсе не хотелось быть моей женой, как и мне не хотелось называться ее мужем. Но та беседа многое изменила.
Они оба – отвергнутые. И те, кто растоптал их чувства, должны были быть наказаны. Вот только Ференца тронуть они не решились. Не потому, что считали менее виноватым, отнюдь, скорее уж из страха.
Слабые.
Анна рассмеялась бы им в лицо, если бы могла смеяться. Она сидела, глядя, как Витольд связывает петлю.
– Больно не будет.
– Мне жаль, – повторила Мари, – ты вовсе не такая, как твоя сестрица. Но обстоятельства таковы, что придется тебе умереть.
– Не будет больно, – словно заклятие, твердил Витольд. Взобравшись на ящики, он прикручивал петлю к стропилам, долго возился с узлами, дергал, раскачивал. – Ты ничего не почувствуешь, Анна. Ты ведь уже ничего не чувствуешь.
Правда. Тело стало легким, невесомым почти, и платье, темное, вдовье, такое неудобное платье, мешало. Анна избавилась бы и от него, и от оков нижней рубашки, от шерстяных чулок и панталон, оставшись бесстыдно нагой. Нынешнее ее состояние требовало наготы, но Анна не в силах была пошевелиться. Улыбалась только, и близость смерти не пугала. Из-за травы?
Или из осознания, что вот-вот все закончится… а Франц, он не поверит, он ведь обещал, что с Анной ничего не случится, что скоро уже она уедет… и камень в ладони, теплый камень, не лгал.
– Пора, Анна, – сказала Мари, отступая. А Витольд подхватил под мышки, потянул, заставляя подняться.
– Ты тяжелее, чем я думал…
…жаль мадам Евгению, она ошиблась в своем предсказании… и тянула до вечера с оглашением имени… почему тянула?
…потому что она не могла назвать убийцу…
…потому что это – тоже игра, ложь, в которую заставили поверить…
…и если так, то…
Анна засмеялась, громко и радостно. Пусть она умрет сегодня, но эта смерть не сойдет с рук ее убийцам, они еще не поняли, что их обманули. Анна же не скажет. Она стояла, поддерживаемая рукой Витольда, а второй он пытался надеть петлю, которая соскальзывала.
– Помоги, – буркнул Витольд жене, и Мари поспешно взобралась на ящик. Места для троих не хватало, и Анна сошла бы, чтобы не мешать людям, но ее не отпускали. Головокружение становилось все более сильным… потолок вертелся… и пол… от Витольда воняло спиртом и кельнской водой, потом, немытым телом… от Мари – французскими духами… и запахи эти, смешиваясь, стирали мир Анны.
Прошлое.
Настоящее.
А будущего нет, ни того, предсказанного лунным камнем, ни иного, которое нарисовала Анна для себя. И пускай, она жалеет единственно о том, что не осмелилась заговорить с Францем раньше, пять лет потеряла… целых пять лет… нет, он бы посмеялся над ней, над ее признанием. А быть может, сам, израненный любовью, пожалел бы, и эту жалость Анна сочла бы оскорбительной, но… она промолчала.
А теперь вот умрет.
– До свидания, Анна. – Голос Мари донесся издалека, и прикосновение ее к щеке было скользким, неприятным. Анна вздрогнула, попыталась отмахнуться от него и, покачнувшись, полетела в пропасть.
Глубокую-глубокую.
Она видела и скалы, которые поднимались к небу, смыкались, это небо заслоняя. И узкое дно с узкими каменными клыками, и черный гремящий поток. Он становился все ближе и ближе. Анна раскрыла руки, желая поток обнять, и холодная вода проглотила ее. Она избавила от той былой легкости, которая так нравилась Анне, лишила дыхания. Анна попыталась выплыть, рванулась и… потерялась.
Куда ей плыть?
Кругом чернота и холод.
– Анна, – кто-то звал ее, и голос этот был знаком. – Аннушка, пожалуйста…
Она потянулась к нему, руками, всем телом, и проклятая горная река раскрыла объятия, отпуская Анну. Треснула водная пленка, и горячий воздух ожег гортань. Анна закашлялась, скрючилась и упала бы, но чьи-то надежные руки ее подхватили.
– Анна… потерпи, прости, что так вышло…
Она не понимала, где находится, а глаз открыть не могла. Все пыталась, но веки будто бы слиплись. И губы тоже. Она умерла?
– Все будет хорошо, – уверяли ее, и Анне очень хотелось поверить. Она прислонилась к плечу, такому надежному и близкому.
Все будет хорошо…
…вот только сознание вновь ускользнуло.
Машка очнулась от внезапной тяжести. Она не могла дышать. Пыталась, хватала горький воздух губами и давилась кашлем.
Дым.
Белый дым просачивался из-под двери, расползаясь тонкими хлыстами.
Пахло гарью.
И в голове шумело. Машка с трудом поднялась, чувствуя, что еще немного – и задохнется, пусть дым и ластился к ногам…
Надо взять себя в руки.
– Мефодий… – Голос осип, и в горле неприятно царапало. Каждый звук давался с трудом, и Машка снова закашлялась. А потом ее вырвало, но после этого, как ни странно, полегчало.
– Вставай, – она добралась до кресла, в котором Мефодий уснул.