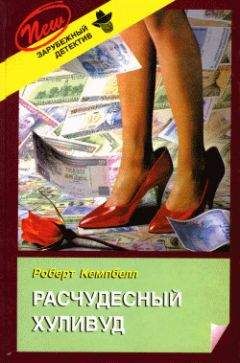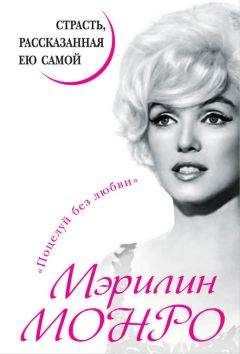Пока их столик сервировали, они практически не разговаривали друг с другом, поглядывая по сторонам столь же праздничными взбудораженными глазами, как и любая другая парочка из числа местных жителей или гостей города.
– Я рассказала тебе о том, чем зарабатываю на жизнь, – сказал Фэй. – А что ты?
– Я детектив.
– Служишь в полиции?
– Частный сыщик.
– Вот уж никогда не подумала бы!
– Да и я тоже.
– И как тебе, нравится?
– Не знаю, нравится ли. Просто мне кажется, что ничем другим я бы заниматься не смог. Или не захотел. По крайней мере, сейчас. В этом городе. А как ты? Тебе нравится собственная работа?
– Это воздаяние.
– В каком смысле?
– Я воздаю за все дурное, что сделала. Ладно. Мне моя работа нравится. Это не то, о чем я мечтала, прибыв в этот город в балетных пачках, но мне нравится.
– Твой ребенок живет с тобой?
Она отвернулась так резко, словно он хлестнул ее по лицу.
– Я что-нибудь не так сказал?
– Мое воздаяние отчасти связано и с тем, что я сделала со своим сыном.
Он не стал задавать лишних вопросов, понимая, что она сама сейчас все расскажет. Он подцепил кусок ростбифа и отправил его в рот вместе с ломтем йоркширского пудинга, а пока жевал, озирался по сторонам, давая ей возможность собраться с мыслями и уточнить, что именно и в каком объеме она собирается ему рассказать.
– Я боюсь, что, услышав то, что тебе придется услышать, ты просто-напросто поднимешься с места и уйдешь отсюда.
Ее губы задрожали, а глаза застлала пелена слез.
Подавшись к ней, он взял ее руки в свои.
– Ты не обязана мне ничего рассказывать. Но мне хочется. И в то же самое время не хочется.
Тогда, думаю, лучше попробовать. А если я действительно встану и уйду, это будет означать, что от меня в любом случае мало проку.
Фэй уставилась на него долгим взглядом, затем шумно вздохнула и отвела глаза.
– После того как Янгера уличили в этих убийствах, я отвернулась от него. У меня не осталось для него даже жалости, не говоря уж о любви.
– Но у тебя же был ребенок, – сказал он, словно на это и впрямь можно списать что угодно.
– Ни любви, ни жалости не осталось у меня и для собственного ребенка. Это был мальчик, и я все время думала о том, что он может превратиться в чудовище вроде собственного отца. Живя за счет женщин, соблазняя и грабя их, выделывая штуки и похлестче. И даже делая то, что в конце концов сделал Дюйм.
Свистун знал, что сейчас это случится. Битье себя в грудь и полное признание. Достаточно он наслушался такого, работая на телефоне доверия, чтобы хватило на всю жизнь. Да и с тех пор подобные воспоминания продолжали обрушиваться на него – признания и пьяниц, и наркоманов, и растлителей, повествующих о своих жалких отвратительных грешках, которые, впрочем, неизменно оставаясь отвратительными, иногда оказывались далеко не такими жалкими и ничтожными. Ему под нож подставляли шею, под его пулю обнажали грудь, готовые вытерпеть любое наказание, какое ему угодно будет назначить. От него ожидали выполнения миссии палача.
И поскольку он не среагировал достаточно стремительно, она высвободила руки, сложила их в молитвенном жесте, явно собравшись рассказать ему все.
Слезы ручьями побежали у нее по щекам, скопившись двумя лужицами в углах рта. Она плакала беззвучно, демонстрируя Свистуну свое горе и свой стыд, потому что ей было некуда от него спрятаться, – от него, произведенного ею в исповедники, но не остающегося, как положено настоящему исповеднику, в глубокой тени, но напротив, сидящего прямо перед нею и являющегося к тому же человеком, которого она некогда знала и любила.
– Я буквально разваливалась по кускам. С ребенком на руках я приехала в родной город, в Джонсон-сити, но, когда я прибыла туда, моя мать уже умерла, а отец не принял меня. Он жил с женщиной и не хотел, чтобы мы путались под ногами.
Выбора у Свистуна не было. Ему предстояло выслушать все, что она расскажет. На лице у него застыла нейтральная маска.
– Мой родной отец не захотел принять меня с малышом, поэтому я совсем сошла с ума и отправилась на холмы в Кентукки, откуда родом Дюйм Янгер. Я оставила мальчика у его отца, который жил в какой-то развалюхе и гнал самогонку… О чем я только думала? О чем я только думала? – Она посмотрела на Свистуна, словно ожидая от него ответа на этот риторический вопрос. – Дюйм рассказывал мне о том, как бил его отец, когда он был мальчиком, особенно после того, как мать бросила их, а я все равно оставила у него своего сына.
– И сколько ему тогда было?
– Четыре с половиной. До тех пор я его продержала при себе. Хоть что-то сделала.
Неужели она рассчитывала на то, что Свистун поставит ей за это плюсик в несуществующем блокноте?
– А как ты зарабатывала себе на жизнь?
– Иногда работала в кафе. Иногда в каком-нибудь магазине. – Она остро посмотрела на него. -Брала деньги с мужчин.
Он не моргнул и глазом.
– Я стала просто чудовищем. Пила. Принимала наркотики. Опустилась на самое дно.
Слезы у нее на щеках уже просохли. Руки теребили край скатерти.
– И вот наступил вечер, когда я…
Она сбилась на полуслове, не зная, рассказывать ли ему то, что он не должен слышать.
– Случилось нечто, вернувшее меня к жизни. Ничего страшного или непоправимого вроде того, что я вытворяла раньше, но так или иначе я очнулась.
– Именно так оно всегда и бывает.
– Четыре года назад я собралась, почистилась, протрезвела. И отправилась за сыном.
– Сколько же ему было лет? Десять? Одиннадцать?
Казалось, она не в силах ответить на этот вопрос. Она поднесла руку к горлу, словно слова застряли там, не пролезая ни туда, ни сюда.
– Но с ним же ничего не случилось, верно?
– Его там не оказалось, – выговорила наконец она.
– Убежал?
– Его продали. Старик его продал.
– Что?
Она заморгала, словно боясь, что он ударит ее за то, что она это допустила.
– Мой свекор умер, но там нашлась старуха, ее звали Гранни Ауэрс, и она сказала мне, что за полгода до моего приезда свекор продал Джона.
– Джона? Так ты его назвала?
– Я же не собиралась называть его в честь отца. -Ее рот скривился, словно она надкусила нечто горькое. – Вот я и назвала его в честь моего отца, а мой отец потом от нас отвернулся.
– Но кому продал его Янгер? И как это произошло?
– Просто продал за наличные каким-то приезжим, а верней, проезжим.
Вставь такой сюжет в книгу, вставь такой сюжет в кинокартину – и никто не поверит тебе, подумал Свистун. Он вспомнил слова, сказанные ему однажды Канааном: "Ребенка от шести до четырнадцати, мальчика или девочку, могут доставить прямо тебе к порогу, не задавая никаких вопросов, и делай с ним, что хочешь. И стоит это удовольствие две с половиной штуки".
– А откуда они приехали? – спросил Свистун.
– Из Центральной или Южной Америки. Из Мексики. Из Азии. Проезжая на восток Штатов. Украли или купили за наличные.
Свистун взял еще один кусок ростбифа. Она бросилась ему в ноги, умоляя о пощаде. А если отдаешь себя на суд другому, едва ли ты собираешься через час после этого лечь с ним в постель. Она превратила его в конфидента, в плечо, на которое можно опереться, в доброго дядюшку. Превратила его в настоящего отца, взамен оказавшегося никуда не годным.
Женщинам кажется, будто с возлюбленным нужно обращаться именно так: кормить его старыми историями, исповедоваться перед ним в былых грехах, проверяя глубину его понимания, нежность его души, силу его чувств. Свистун, однако же, относился к этому совершенно по-другому.
Каждый день на протяжении пятнадцати с половиной лет он просыпался под оглушительный звонок, ранним утром пробуждавший его ото сна и лишавший тем самым единственного утешения.
Каждую ночь он лежал на нижней койке двухъярусных нар, глазея на верхнюю, на которой спал какой-нибудь уголовник. В последнее время это был грязный итальяшка по имени Мачелли. И, глазея, он мысленно восстанавливал череду событий, заставивших его очутиться в таком дерьме.
Ему говорили, что он убил и зверски искромсал трех женщин. Его осудили, его приговорили, его заперли в эту клетку. Вспоминая последний вечер, проведенный в трактире "У Бадди", он так и не мог вспомнить, что отправился с Глэдис Трейнор на задворки и перерезал ей горло ножом для резки линолеума, который предъявили в качестве вещественного доказательства. Его личный нож. Он помнил о том, как сопротивлялся при аресте, когда полицейские вломились к нему и поволокли наружу, из собственного дома, из собственной спальни, в которой, забившись в дальний угол, тряслась от ужаса его беременная жена. Позже он сказал, что решил, будто в дом к нему вломились грабители или насильники, но ему возразили: с какой стати грабители стали бы вламываться в дом, в котором нечего украсть? С какой стати насильники заинтересовались бы женщиной, которая вот-вот родит?