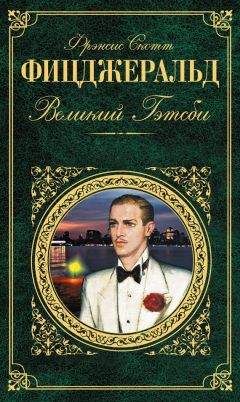к своей работе собственнически.
— Грейс, боже мой…
— Не зовите Бога, он здесь ни при чем, — заметила Грейс и улыбнулась.
— Зачем же ты оставила на титульнике только мое имя?
— Потому что моя работа — это ваша заслуга, — уверила Грейс и не намекнула даже, что исследовательская работа была готова еще летом, а поправки внесены за несколько дней после получения задания. Тему Грейс спросила еще в прошлом учебном году, но Ливье словно забыла. Грейс молчала только потому, что ждала, пока профессор Ливье примет участие в работе, но так и не дождалась.
Жаклин в тот момент могла бы сказать, что ни разу не написала Грейс за дни работы, и извиниться. Признаться в том, что так и не смогла лишить себя удовольствия задать ей чуть больше домашнего задания, чем остальным, чтобы посмотреть, как ученица справится. Не для того, чтобы похвалить ее, — чтобы похвалить себя. Такова была реальность. Не так и сложно увидеть, если приглядеться.
— Грейс, это так мило с твоей стороны!
— Не стоит.
— Что не стоит?
— Это ничего не стоит. Это — ваше, — сказала Грейс и сделала шаг вперед.
Вся Грейс была напротив, правда и ложь, благодарность и безразличие, а Ливье не знала, что делать с этим подарком. Преподавательница задумалась, замерла, чтобы ненароком не сделать лишнего движения, и пыталась просчитать, что бы сказать, лишь бы не потерять уважение.
Но Грейс опередила ее.
— Спасибо, Жаклин.
— Прости? — опешила Ливье.
— Спасибо, Жаклин.
— За что?
— За то, что ты есть.
Профессор положила работу на стол и сделала маленький, почти незаметный, шаг к Грейс.
— Ты какая-то странная сегодня, Грейс. Ты не простыла? — прошептала Жаклин Ливье и протянула руку к Грейс, надеясь достать до ее лба.
Грейс незаметно сделала маленький шаг навстречу. Ладонь Ливье, горячая, пахнущая кремом для рук, коснулась чужого лба. Он был обыкновенным, чуть теплым, как и у всех людей.
— Ничего не понимаю, — пробубнила преподавательница.
— Ничего не нужно понимать.
Ливье вздрогнула. Красивые миндалевидные глазки округлились, напомаженный рот глотнул воздух, жадно, словно приготовившись к последнему вдоху.
Грейс была колоссальной в самоотверженности. Так повиноваться чужому безразличию и жадности мог не каждый. Хармон вдруг показалась преподавательнице огромной. Казалось, головой девушка упирается в потолок. А Грейс всего лишь улыбнулась.
— Грейс, что с тобой? Я тебя не узнаю, — прошептала Жаклин и попыталась сделать шаг к столу, но не смогла.
Грейс чуть сжала плечо Жаклин, улыбнулась, а потом отпустила. Ливье почувствовала это прикосновение под кожей. Так, будто она стояла голая, а Грейс разглядывала и посмеивалась. Какой же жалкий конец.
— Разве мы знаем тех, кто окружает нас? Каждый человек — это сюрприз. Никогда не знаешь, что он выкинет.
— Это уж точно, — усмехнулась Жаклин.
Грейс замолчала, словно на мгновение задумавшись. Но это ей больше не грозило — отныне размышлять не надо. Все ясно.
— Вы ведь хотели выступить на этой конференции? Там будет телевидение. Вся страна увидит ваш триумф.
Жаклин улыбнулась совсем как девочка.
— Всю жизнь мечтала.
— Так выступайте. Работа хорошая.
— Я даже не сомневаюсь, ты ведь… так много работала.
— Вы ведь верите в то, что ради вас способны и не на такое, — сказала Грейс и улыбнулась.
— Хотелось бы верить.
— Так верьте. У вас отлично получается.
На лице Жаклин на секунду появилось нечто, похожее на понимание. Но исчезло также быстро, как и появилось. Она снова была рада собственной победе и не понимала, как сильно и по-человечески оплошала.
— Исполняйте мечты, профессор Ливье. Вам они нужнее, — сказала Грейс, подарила профессору последнюю улыбку и ушла, сверкнув белизной в темноте вдруг погрузившейся в пыль аудитории.
Никаких восклицаний, брошенных вслед, не услышала. Больше такого не повторится.
Грейс не хотела думать о Ластвилле. Про себя она повторяла запись, которую прочитала на листочке: «Не забудь. Сегодня в полночь на холме, где Джексон читал нам о жизни. Не исчезни в лесу. Нас будут ждать».
Она не забыла бы. Она точно не забыла бы.
XV глава
Ветер переменился, стал холодный, плотный. Казалось, над землей натянули пленку и каждый впутывался в нее, останавливался и, не в силах сделать нормальный вдох, — задыхался. Небо почернело, но дождь кончился. Птицы смолкли. Даже деревья не перешептывались. Острый флюгер с гербом университета еле заметно покачивался. Темные стены, устремленные ввысь и оканчивающиеся черной черепицей крыши, казалось, защищали не студентов от природы, а стихию от людей. В тишине отчетливо слышен каждый скорый шаг, и так громко, казалось, вдалеке, за стенами университета, разговаривали студенты, что в мире не существовало ничего, кроме приближавшейся болтовни.
Руби вылетела из здания первая, поднатужившись, распахнула вековые двери. Они ударились о стены, не смогли вновь закрыться и, печально скрипнув, замерли. Красное пальто было единственным ярким пятном в общей мрачности.
Быстро Руби дошла до лавки в тени облетевшего дерева и плюхнулась на нее, не побежав лишь потому, что не хотела еще больше опозориться. Хорошо, что лавка, спрятавшаяся от дождя под навесом из плотно переплетенных ветвей, не была мокрой, иначе бы день Руби был бы испорчен еще больше. Она бы совсем не хотела испачкать новую юбку цвета почти дозрелого персика от Moschino 17.
Руби молчала, смотря в одну точку перед собой — огромную лужу, в которую наступила, не увидев. Высокие кожаные сапоги намокли, но Руби не думала об этом. От ярости забыла обо всем, даже о том, что надела новую пару обуви в третий неделю. Тем более о дискомфорте и вероятностью на следующий день слечь с простудой.
Руби стиснула зубы и сжала ладошки в кулаки. Но когда к лавке подошли остальные — выпрямилась и опустила плечи. Отец всегда говорил ей держать лицо. В любой ситуации, даже если хочется расплакаться от обиды. Особенно если хочется расплакаться.
— Вот это Лэмб учудил! — воскликнул Осборн и рассмеялся. Он плюхнулся