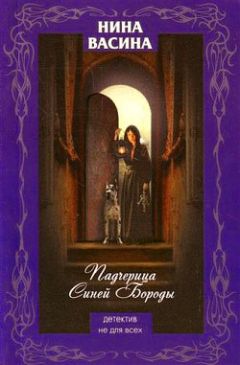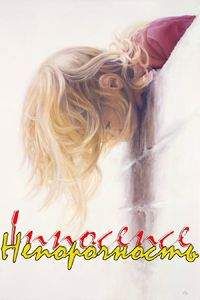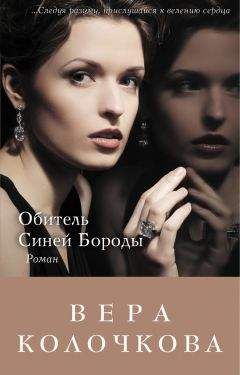— Может быть, в Интернете, на сайте для педофилов? Отчим, когда был живой, отсылал туда мои фотографии в голом виде, — предложила я свое объяснение.
Наступила, как это принято говорить, гробовая тишина. Она получилась действительно гробовой, все-таки я упомянула мертвого отчима, и лица у всех сидящих за столом сделались совершенно похоронными. Особенно изумилась жена Лаптева, она бросила ложку, закрыла рот рукой и сочувственно вскрикнула:
— Деточка?!.
Лена смотрела на меня во все глаза и кусала губы.
— Я работаю в министерстве здравоохранения, — доверительно сообщила жена Лаптева, — у меня есть хорошие знакомства, если ты испытываешь психологические проблемы…
— Спасибо. Я наблюдаюсь у психиатра. Даже прошла у нее тесты на агрессивность.
— На агрессивность?
— Да. Я чуть не зарезала своего отчима.
Вся троица переглядывается. Нервы Аделаиды не выдерживают.
— Я посмотрю второе! — зловеще объявляет она и уходит в кухню.
— Как же это получилось? — шепчет сострадательная мадам Лаптева и показывает на стул рядом с собой. — Садись, детка!
— Сначала я хотела его отравить, — доверительно сообщаю я, усаживаясь и наливая в пустую тарелку половник супа. — Смешала, как полагается, беллоидную субстанцию с большой дозой спиртного… — Пробую суп. Ну и гадость. — Ну вот, а потом, когда кореец отказался пить, я набросилась на него с ножом.
— Кореец? — все еще не понимает Лаптева, но я заметила, как муж толкнул ее под столом ногой.
— Получилось так удачно, — улыбаюсь я Лене, — так хорошо все получилось!
— Что же тут хорошего? — не понимает Лаптев.
— Приехала “Скорая”, чтобы перевязать рану. И кореец — это мой отчим, я его так называла, он не обижался, — выздоровел и женился на медсестре с этой самой “Скорой”, а врач, который выпил коктейль, умер, представляете? Потом оказалось, что он был виноват в смерти моей мамы, разве это не удачно получилось?
— Кто? Кто был виноват в смерти твоей мамы? — госпожа Лаптева выдавливает накрашенными ресницами первые слезинки.
— Врач, который в тот вечер дежурил на “Скорой”! Он раньше работал в больнице в хирургическом отделении.
— А кореец?..
Похоже, она совсем тупая.
— А кореец женился на медсестре, — вздыхаю я, — Уже можно второе подавать?
Может быть, у Лены на щиколотке татуировка с инициалами Гадамера? Г и Ш, в рамочке в виде сердечка…
После обеда мы с Аделаидой готовим спальни для гостей. Все комнаты открыты, все постели перерыты, я хожу туда-сюда сначала с пылесосом, потом с огромным пластмассовым кувшином, полным воды, и поливаю шестнадцать горшков с цветами. За мной почему-то увязался Милорд, я уж было решила использовать его интерес ко мне, чтобы попасть в подвал (скажу потом, что собака туда спустилась), но Аделаида приказывает принести из кладовки на первом этаже два коврика и уложить их в спальнях.
Несусь со всех ног в подвал. Могу я не знать, где в доме кладовка?
Запросто. Могу предположить, что она находится в подвале? Еще как могу!
Бесконечная вереница переходящих одно в другое помещений. Что-то вроде котельной, потом — бильярдная, потом — склад ненужной старой мебели, потом…
Стоп. В углу, где свалены в кучу несколько плетеных кресел-качалок, что-то краснеет. Какая-то тряпка. Пробираюсь, уронив по пути два скелета абажуров, колченогий стул и подставку для цветов.
На изогнутой перекладине одного из кресел-качалок, аккуратно сложенный, висит красный шарф. От неожиданности я стала на колени и несколько секунд просто смотрела. Потом взяла в руки. Развернула. Из шарфа выпала записка.
“Paris, rue de La Rose, 42/563”.
Старые пятна крови схватились темной коростой. Нюхаю шарф, приложив к лицу. Пахнет высохшей кровью и одеколоном корейца.
Раскидываю кресла-качалки, осматриваю этот странный угол, где у пола — очень кстати — розетка и настольная лампа с прожженным абажуром рядом с нею.
Кресла были свалены на матрац, когда я его открыла, то обнаружила еще несколько бурых пятен, но нюхать не стала.
Кому он это написал, уходя отсюда? Жене Коржака? Это с нею он пил в подвале вино? Сажусь на матрац, на бурые пятна, опять нюхаю шарф корейца и пытаюсь хоть что-нибудь понять. Почему-то мне кажется, что окровавленный шарф оставлен здесь специально, но не для жены Коржака. Тогда для кого?
— Он знает! — сказала я громко, и от неожиданности, от звука своего голоса сжалась, обхватив колени руками. — Он знает, что я здесь, — сказала я себе уже шепотом. — Он знает, он согласился на мое пребывание здесь, но поставил условие… Собака. Каждый день в определенное время пес тащит меня на поводке по одной и той же дороге, и кореец может меня разглядеть — жива-здорова, пытками не изуродована… — Да пошел ты со своей зоботой! — кричу я, и где-то наверху тут же заходится лаем Милорд.
Ладно, успокойся и постарайся думать, как он. Зачем бы ты оставила на видном месте окровавленную тряпку и записку с адресом в ней? Чтобы предупредить об опасности и предложить убежище? Ничего себе убежище, можно сказать, совсем рядом — рукой подать! Париж… Интересно, есть ли у Пенелопы на стенах хоть уголок этой улицы?
А все-таки не мне, а жене Коржака? Или — мне?.. Ладно, чего думать, я точно знаю, кто заслужил эту бумажку!
На вечерней пробежке, еле передвигая ноги, тащусь малоподвижным грузом на поводке за собакой. Вчера была оттепель, а сегодня подморозило, я падаю пять раз, на шестой — остаюсь лежать на заледеневшей дороге. Для удобства подкладываю под голову руку. Пес, подергав поводок, сдался, присел рядом и вдруг завыл дурным голосом. Ага, не утащишь меня за горизонт! Слабо?
Как ни странно, такое мое поведение имело совершенно неожиданные последствия. Сначала послышались шаги слева от дороги, и Милорд перешел от воя к воинственному лаю — сделал вид, что охраняет меня. Я страшно удивилась, когда на меня выбежал из темноты… шофер Сергей Владимирович!
— Что случилось? — поинтересовался он, быстро ощупывая мои ноги и голову. — Заткнись, Милорд! Что за глупая псина! Ты не убилась?
— Я просто лежу, устала бегать с ним, ноги не двигаются уже. Знаешь, это бывает из-за реакции мышц на перенапряжение. Вырабатывается молочная кислота, поэтому каждое мышечное усилие оказывается таким болезненным. А ты каким ветром тут оказался?
— Я гостей привез Коржакам, слышу — пес воет. Вот и побежал…
Теперь послышались быстрые шаги справа от дороги. Я вскочила и громко стала благодарить участливого шофера. Я божилась, что буду бороться с этой чертовой молочной кислотой, делать массаж, теплые ванны и увеличивать нагрузку постепенно и уже через несколько дней побегу по льду впереди Милорда, и еще много чего, в основном получались совершенно идиотские заявления — что он теперь про меня подумает? Представить страшно.
Мне казалось, что сегодня должна появиться сама Пенелопа. Когда шофер раз десять переспросил, уверена ли я, что сама дойду домой, и ушел к машине, я потопталась, оглядываясь, но никто не подходил. Услышав звук мотора, Милорд понял это как сигнал и поволок меня дальше по дороге. До поворота с рекламным щитом. Там мы с ним последовательно развернулись — он первый, я-на коленках — за ним, и вдруг мне пришла в голову гениальная мысль!
— Милорд! — крикнула я. — Стоять!
Пес стал как вкопанный.
Боже, какое облегчение! Медленно поднимаюсь на ноги и убеждаюсь, что на коленках джинсы протерлись почти до дыр.
— Лежать!
Милорд, поворчав, укладывается. Нет, это какой же идиоткой надо быть, чтобы не сообразить, что громкое напутствие Аделаиды “вперед!” каждый раз, когда она закрывает за нами двери, было приказом собаке протащить меня галопом на поводке по всем кочкам!
— Сидеть, — я продолжаю самоутверждаться, никак не могу остановиться.
Милорд поднялся, подошел ко мне и ткнул нос в карман куртки. Не обнаружив никакого намека на запах вкусностей, он посмотрел укоризненно, вздохнул и медленно пошел к дому, волоча за собой по земле поводок. Надо будет завтра взять ему что-нибудь для поощрения.
— Рядом, — говорю я устало, и Милорд дожидается, когда я подойду, чтобы оказаться как раз на голову впереди моей правой коленки.
— Голос! — начинаю извращаться я. Короткое негромкое тявканье, как подачка. Оглядываюсь. Очень все интересно, но почему никто не выходит на связь?
— Охранять! — придумываю я. — Чужой! Остановившись, пес принюхивается, и вдруг шерсть у него на загривке становится дыбом. Глаза загораются, десны вздергиваются, обнажив чудовищные зубы, а здоровая задняя лапа воинственно скребет обледеневший снег.
— Фас!
Это последняя команда, какую я могу вспомнить. Есть еще “аппорт!”, но я подожду, кого он фаснет, а уж потом попрошу принести это мне под ноги.
Милорд бросается к зарослям у дороги, и оттуда с громкими ругательствами и страшным треском выбегает… Один, два…три…