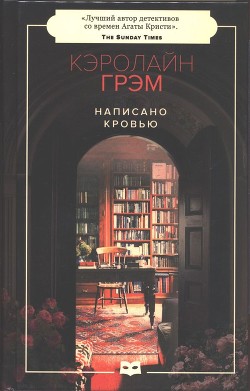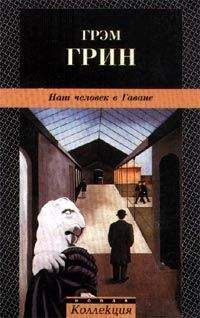Мать Лайама вернулась из больницы, но Хэнлон не выгнал из дома деревенскую девушку, которую привел, пока жены не было. Она-то и застигла мальчишек однажды позади стожка в сумерках «за этим делом». «Прям как выдры!» Отец Лайама погнался за ними с ружьем, и с тех пор его никто больше не видел. «Утоп в болоте» — таково было общее мнение. Никто бы и не возражал, утоп так утоп, вот только двое парнишек тоже исчезли. Гарда провела расследование, но, думаю, не очень старалась.
После многих лет физического и морального гнета и потери единственного сына Мэри Хэнлон повредилась умом. Она останавливала людей на улице, вглядывалась в их лица дикими, словно обвиняющими глазами, умоляла, чтобы ей вернули Лайама. Иногда она стучалась в двери домов или кричала в щели для писем, что здесь прячут ее сына, и требовала выпустить его. В конце концов ее отправили в сумасшедший дом.
Два подростка, как тысячи подростков до них, бежали в большой город. В данном случае — в Дублин. Здесь дела пошли хуже некуда, по крайней мере у Лайама. Очень скоро они с Конором оказались на улице. А еще через некоторое время стало ясно, что Лайаму, с его юностью и красотой, — а он был невероятно красив тогда, — придется по первому требованию поворачиваться спиной. Конор быстро взял дело в свои руки. Скоро уже никто не мог приблизиться к юному Ганимеду, минуя его сутенера. Расценки были высокие, насколько позволял рынок, но Лайам получал только еду, небольшую сумму на одежду и карманные деньги. Так они прожили почти три года.
Вам может показаться странным, — Макс Дженнингс расцепил пальцы и повернул руки ладонями вверх, как бы показывая, что и сам удивлен, — что Лайам так долго терпел подобное положение вещей, но Конор держал его на коротком поводке. Клиенты приходили к ним на квартиру, так что возможности завести других друзей или знакомых у парнишки не было. Конор злился на Лайама, если тот хотел выйти куда-нибудь или встретиться с кем-нибудь. Этого было достаточно, чтобы держать мальчика в узде, тем более он боялся насилия, что неудивительно.
Впервые в жизни сержант Трой, внимательно слушая рассказ Дженнингса, поймал себя на том, что педераст, отброс из выгребной ямы общества, вызывает у него некоторое сочувствие. И это его сильно обескуражило. Подойдя очень близко к роковой черте, испытав от этого раздражение и неудобство, Трой спасся при помощи заветного файла «Клише на все случаи жизни». И файл этот, как всегда, его не подвел. Под буквой «У» («Увертки») там значилось: «Исключение лишь подтверждает правило». Уф! Метафорически Трой отер пот со лба. На какие-то секунды все показалось неясным. Слишком сложным. Но отпустило, слава богу. Он снова обратился в слух.
— За несколько месяцев до того, как Лайаму исполнилось семнадцать, он встретил Хилтона Коннинкса. Вы не слышали о нем?
Барнаби отрицательно покачал головой, но в мыслях вертелось что-то, слишком смутное, чтобы ухватиться за это воспоминание. В любом случае в его планы не входило поощрять уклонение от темы. На улице уже темень кромешная. Продвигаясь с такой черепашьей скоростью, они, чего доброго, тут заночуют.
— Коннинкс был портретистом. Очень востребованный и состоятельный, но низко ценимый критиками. Хотя две его картины висят в Дублинской национальной галерее. Этакий ирландский Аннигони [67]. Один приятель рассказал ему о красоте Лайама, и Коннинкс решил назначить юноше встречу. Художник не интересовался тем, что его крутой приятель называл «раздвинуть щечки». Да, Коннинкс был гомосексуалистом, но ему уже перевалило за семьдесят, и оставшиеся силы он берег для работы.
Увидев Лайама, он сразу решил написать его портрет. В автобиографии «Раскрашенная глина» Коннинкс описывает свое первое впечатление от встречи с юношей лучше, чем это смог бы сделать я. Но была одна проблема — Конор. Он запросил большую сумму за каждый сеанс. И это бы ничего. Но Конор настаивал на том, что не только будет привозить Лайама в мастерскую художника и потом увозить, но и присутствовать на сеансах. Чтобы оберегать своего протеже от «старого педераста» — так он это объяснял.
На самом деле Конор просто не мог допустить, чтобы Лайам от него отдалился. Ему тем более не хотелось, чтобы паренек проводил время в обществе такого богатого, умного и успешного человека, как Хилтон Коннинкс. Удерживать Лайама при себе Конор мог, только постоянно играя на воспоминаниях об их общем (так он это подавал), нищем и безрадостном детстве. Да, они оба в дерьме, и нечего им заглядываться на звезды.
Тут Дженнингс на минуту замолчал, обхватив голову руками, как будто ему было невыносимо рассказывать все это. Потом он заговорил гораздо быстрее. Создавалось впечатление, будто он только и мечтает, как бы поскорее с этим покончить.
— В итоге жадность победила стремление Конора сохранить статус-кво. Как агент, вернее, сутенер Лайама, он запросил сто гиней за каждый сеанс. Коннинкс сказал, что сеансов потребуется не меньше двенадцати. Но в середине второго сеанса он вдруг положил кисть и заявил, что не может продолжать в присутствии третьего лица. Он, конечно, заплатит за оба сеанса, но на этом все и кончится. Много позже Лайам узнал, что это был блеф и, если бы Конор уперся, даже удвоил цену, Коннинкс сдался бы. Но тысяча двести гиней — это была куча денег в конце пятидесятых, особенно если ты и пальцем не шевельнул, чтобы их добыть.
Барнаби с трудом подавил в себе отвращение к тому, как эти двое торговались за мальчика, уже преданного и проданного бог знает сколько раз. Как будто это был не человек, а кусок мяса на рынке. Старший инспектор не мог избавиться от мысли, что бездушный торг велся именно за ребенка, словно в насмешку достигшего «возраста согласия».
— Это было начало конца Конора. Через несколько сеансов Хилтон Коннинкс узнал ужасную историю Лайама и стал уговаривать его освободиться от рабства. Это было непросто. Лайам так долго полностью зависел от Конора, что просто не мог себе представить, как выживет без него. У него не было другого дома, кроме того, в котором его поселил сутенер, и почти не было денег. Но Коннинкс настаивал. Художник располагал большими возможностями, и не только финансовыми. Конору же, который с самого приезда в Дублин зарабатывал на жизнь подсудными делами, было не с руки привлекать к себе внимание. Однажды вечером Лайам не вернулся с сеанса. Шофер Коннинкса заехал к Конору и попросил отдать ему вещи Лайама. Вещи ему отдали, и все было кончено.
Лайам жил у Коннинкса пятнадцать лет, и с ним обращались как никогда прежде. Ласково и с уважением. — Дженнингс заговорил еще быстрее, чувствуя раздражение слушателей и ошибаясь в этом. — Я сокращаю, насколько возможно. Хилтон пробовал образовывать Лайама в живописи и музыке, но, надо признать, без большого успеха, а еще приохотил его к чтению. В первые четыре-пять лет, что они провели вместе, когда Коннинкс еще видел, он написал много портретов паренька. У него была такая причуда — никогда не изображать модель в современной одежде, и Лайама он писал то викторианским священнослужителем, то французским зуавом, то пашой, то персидским лютнистом, последний — как раз один из двух портретов, которые висят в Национальной галерее.
Лайам стал компаньоном, личным секретарем и другом Коннинкса. Хотя между ними никогда не было плотских отношений, Коннинкс, несомненно, был очень привязан к юноше. Лайам относился к нему более сдержанно. Он испытывал благодарность к старику, как, я думаю, обездоленные дети всю жизнь бывают благодарны за любые, даже за самые незначительные проявления любви и ласки, но не мог ответить в полную силу. Может быть, его аппарат любви, если позволительно так выразиться, был непоправимо поврежден. Вероятно, попытки Коннинкса залечить раны парня так и не достигли успеха. К некоторым страданиям нельзя прикасаться. Не согласны?
Барнаби никогда не думал об этом. Теперь, задумавшись, он решил, что Дженнингс, пожалуй, прав. И это его сильно опечалило. Трой добавил безысходности, спросив: