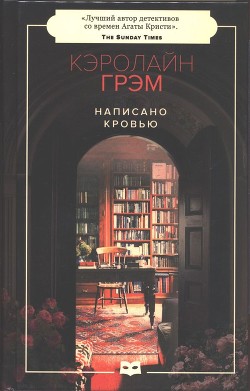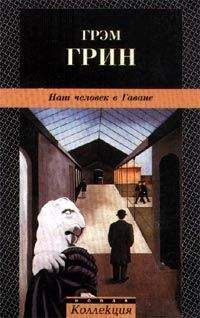— Вы сказали, что мистер Коннинкс потерял зрение?
— Да, за несколько лет до смерти. Лайам делал для него все что мог и, когда старик в девяносто с лишним лет тяжело заболел, ухаживал за ним до самой его смерти.
По мнению Барнаби, это как раз не говорило о неспособности молодого человека любить, но ему не хотелось ставить плотину на разогнавшейся реке, и он смолчал.
— В завещании Лайам был назван единственным наследником. Он унаследовал дом, кучу денег и огромное количество картин. Как это часто случается после смерти художника, критики вдруг открыли, сколь многогранен и недооценен был Коннинкс, и за несколько недель цены на его полотна подскочили еще выше. Потом случилось нечто ужасное. Вести о баснословном наследстве, полученном Лайамом, быстро распространились. Дублин не такой уж большой город, и к тому же об этом напечатали в «Айриш таймс». На следующий день объявился Конор. Половина наследства — иначе он расскажет полиции, что Лайам не только причастен к убийству своего отца и помогал закапывать тело, но что именно его выстрелом отец был убит.
— А это правда? — спросил сержант Трой.
— Он клялся мне, что нет. Его версия: он спрятался в амбаре неподалеку от дома Конора, а тот вошел в дом взять денег и переодеться. Но Конора не было три часа. Вернувшись, он сказал, что Хэнлон больше не будет им досаждать. Лайам говорил мне, что больше ему ничего не удалось вытащить из Конора. Несомненно, Лайам испытал тогда такое облегчение, что не очень интересовался, во что обошлась его свобода.
— Но будучи на тот момент несовершеннолетним, — сказал Барнаби, — он мог не бояться полиции.
— Да, ничего серьезного, — согласился Макс. — Он понимал это, и Конор, вероятно, тоже. Но Лайам не мог отреагировать на эту новую угрозу рационально. Прежнее вернулось, понимаете? Ужас вернулся. Наши детские страхи пугают нас всю жизнь.
— Так как же он справился с таким поворотом событий?
— Ну, теперь-то все обстояло несколько иначе. Лайам стал старше, он был довольно богат, обладал широким кругом знакомств, некоторые его знакомые пользовались немалым влиянием. Но и Конор тоже процветал, хотя его успехи при близком рассмотрении выглядели довольно неприглядно. А знакомые его были очень уж неприятны. Насчет того, как Лайам поступил… так же, как поступал всегда. Держал Конора в ожидании, пока приводил свои дела в порядок, а потом бежал и на этот раз устроил все очень умно. Уехал в Англию, сменил имя и придумал себе совершенно другую биографию.
— Довольно решительный поступок, вы не находите? — спросил сержант Трой.
— Вам бы так не показалось, если бы вы слышали, как он сам об этом рассказывал. — Дженнингс прервался, чтобы выпить воды. И вид у него вдруг стал озабоченный, как будто мысли его внезапно резко сменили направление. Он поставил стакан и провел рукой по лбу, словно смахивая надоедливое насекомое. — Он решился на радикальные перемены не только для того, чтобы скрыться. Лайам питал довольно трогательную уверенность, что, изменив внешние детали и поведение, он чудесным образом преобразится внутренне.
— «Каждый день я становлюсь лучше и лучше…» [68] — процитировал Барнаби.
— Вот именно. В какой-то степени, и на очень поверхностном уровне, это возможно, но раны, полученные Джеральдом, были слишком глубокими и нагноившимися, чтобы залечить их такими кустарными методами. Но, как вы, вероятно, слышали от всех, с кем был знаком Джеральд, внешне он справился с задачей блестяще. К моменту нашего знакомства он выглядел и разговаривал как типичный англичанин. Любой аристократический клуб был бы горд иметь его свои членом.
«Ну уж не знаю, — мысленно возразил Трой. — Попадись он им ночью, в белье с оборочками, под пикантной вуалькой, старичков джентльменов пришлось бы срочно поместить в палату интенсивной терапии. Мне, пожалуйста, тройное шунтирование, доктор, и поосторожнее с афродизиаками, вроде носорожьего рога».
— Исповедь Джеральда растянулась на несколько недель. Он растягивал ее дольше необходимого, добавлял посторонние сцены, искушая, как женщина, обнажающая часть груди. Сыпал ирландскими именами и фамилиями, о которых ни я, ни, подозреваю, кто-то другой, никогда не слышал. Явно воображал себя Шехерезадой. Пока рассказ о его злоключениях длился, мы продолжали встречаться. Когда он закончился… — Дженнингс неожиданно и неуклюже «сделал ручкой».
— Так он не добивался от вас физической близости?
— Конечно нет.
— Но если он был влюблен в вас…
— Он любил меня, а это не одно и то же. Он говорил, что раньше никогда ни к кому так не относился, и, рискуя показаться тщеславным, скажу, что я ему поверил.
— Он вообще говорил о сексе?
— Однажды, мимоходом. Он описал это как унизительный зуд, от которого избавляешься в гадких местах с гадкими людьми.
— Похоже, он не брезговал случайными связями, — заметил сержант Трой.
— Ну не с вами же, так что этого вы не знаете.
«Это уж точно, дружок, не со мной!»
— Подбирал себе мужчин в барах, парках, общественных туалетах.
— Возможно. Думаю, когда ему хотелось совсем уж расслабиться, он уезжал за границу. И эту часть своей жизни тщательно скрывал.
— Не понимаю почему, — удивился Трой, — это больше не запрещено.
— Да потому, что для него это было нечто постыдное, гнусное! — разозлился Дженнингс. — Я только что рассказал вам историю его жизни. Боже мой, неужели вы не можете сделать какие-то выводы!
Трой вспыхнул. Уже случалось, что его выставляли бесчувственным олухом. Когда он заговорил снова, в его хрипловатом голосе звучала явная издевка:
— Итак, что же разрушило небесную мечту о чистой любви, мистер Дженнингс? И сделало вас человеком, с которым он боялся оставаться наедине?
Дженнингс ответил не сразу. Он явно хотел удержаться от грубости, Барнаби видел, как он у него дернулись губы и тут же плотно сжались. Взгляд снова стал настороженным, шея и плечи словно окаменели.
Позже старший инспектор думал, откуда вдруг взялась его собственная следующая реплика. Он пытался отследить ее источник. Может быть, кто-то из членов писательского кружка что-то сказал ему о книге Дженнингса? Или он что-то слышал от Джойс? Или же книгу экранизировали и он, сидя в полудреме вечером у телевизора, нечаянно запомнил блеклый пейзаж, а потому сейчас у него возникло нечто вроде дежавю? Какова бы ни была причина, в нем крепла уверенность, что нельзя просто так отмести эти мысли. И он решил проверить:
— А Хедли знал, что вы записываете его откровения, мистер Дженнингс?
— Нет. — Он поднял голову и посмотрел на старшего инспектора устало и покорно, как если бы согласился поставить позорную точку в их разговоре после долгой, изнурительной борьбы. — Вы должны отдать мне справедливость, Барнаби. Я никогда не притворялся, будто сам сочинил эту историю.
Они сделали еще один перерыв. Опять заказали еду. И на этот раз старший инспектор не устоял. Он был голоден как волк. Он провел в допросной три часа, напряженно слушал — и все это на жалкой порции зелени, которая и кролика не насытит. Кстати — вдруг всплыло неизвестно откуда взявшееся воспоминание, кусочек какой-то давно забытой сказки на ночь, — кажется, салат обладает снотворным эффектом. Нет-нет, ему, как никогда, нужно сосредоточиться.
А сэндвичи были чудо как хороши. Толстые куски ростбифа с кровью, ветчина в оранжевой панировке с французской горчицей, сыр, красный лестер, и огурчики в сладком маринаде, и все это между толстыми ломтями белой булки или хлеба с отрубями, намазанного маслом.
— Это из столовой, сержант? — спросил Барнаби, тщательно отделяя веточку кресс-салата и откладывая ее в сторону.
— Ясное дело, из столовой, — с некоторым удивлением ответил Трой.
— Потрясающе.
— Правда?
Старик уже третий бутер уплетает! Трой же удержался и съел всего половинку. Иначе эти противные треугольники жира на пояснице никогда не исчезнут. Самый обыкновенный бутерброд. Что он в нем такого нашел?