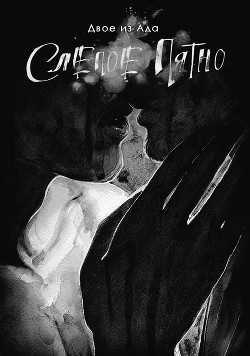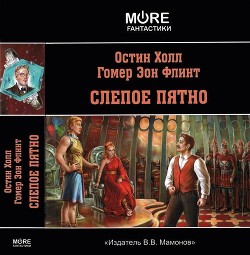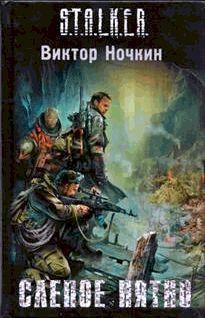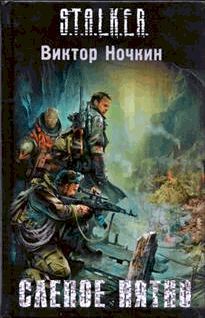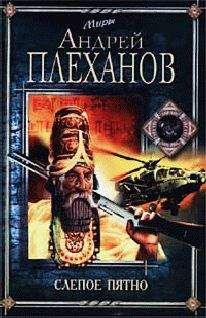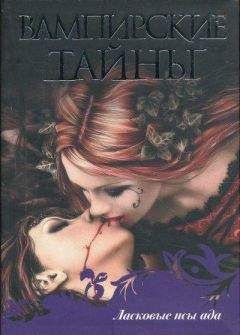— Здравствуйте, Лев Денисович, — отчеканил Горячев и вздернул подбородок. А затем его внимание снова целиком вернулось к Елене. Они продолжили. Как ни в чем не бывало продолжили, если бы только не предупредительные переглядки сестры: «Не наделай лишнего». Лев и не наделал бы, ибо оцепенел и только коротко кивнул в ответ. Он ругал себя, ругал за почти мальчишеское поведение, за смятение, за такую глупую реакцию и за радость, которую испытал от одного короткого акта внимания. Но вот Антон ушел, а Елена остро смотрела на Богданова и барабанила пальцами по предплечью.
— И что это за взгляд был?
— Какой? — беззаботно ответил Богданов, вдруг перепутав стопки с готовыми документами и свежими.
— Ну вот этот вот, только что. Щенячий такой.
— Не понимаю, о чем ты.
— Лев… Мы с тобой договаривались. Чтобы я не видела, что ты на него даже смотрел, ясно?
— Ой, нужен он мне, — фыркнул Лев, отмахиваясь от назойливого внимания сестры. — Он со мной поздоровался, мне что надо было, отвернуться? Со столом здороваться?
— Не трогать и не смотреть, — пригрозила Елена пальцем. — Он еще зеленый совсем, а ты его такому стрессу подверг.
— Я не трогаю и не смотрю. Вообще. Мне неинтересно, — раздраженно вздыхал Лев. Елена удовлетворилась таким ответом и продолжила работу, с упоением рассказывая о Насте. А Богданов себя успокаивал: «Ну, я не буду трогать или смотреть, я буду ему писать… Этого никто не запрещал же, верно?»
Когда Лев наконец смог остаться наедине с собой, за окном уже расцветало субботнее утро. Он слышал заливистые птичьи трели, немного раздражающий скрип качели во дворе, ругань и смех, лай собак. В хорошую погоду люди стремились на улицу, чтобы продышаться, отряхнуться от будничной пыли, но только не Богданов. Лишь разлепив глаза, он сразу полез смотреть, чем занимается Антон. И увидел то, чего не хотел бы увидеть после столь обнадеживающего приветствия в пятницу. Горячев сообщил на своей странице, что вечер весело провел в «Бермуде», а на выходные намеревается уехать в неизвестном направлении. Лев выключил экран, безвольно уронил телефон и руки себе на живот. «Значит, развлекается, — зудело в голове. — Даже не скучает. Даже не думает… Наверное, я для него действительно извращенец-пидорас? Не больше?» На грудь словно положили тяжелый камень, и Лев все никак не мог с ним вздохнуть во все легкие. Ревность прошила неаккуратными стежками живую плоть манерой закостенелого маньяка, который решил прикрепить сердце к позвоночнику. Но Лев же смотрел на него, а Горячев не отводил взгляда. И зачем здоровался, зачем цеплял живую еще рану? Из вежливости? Вот так взять и проткнуть своим вниманием человека, что бабочку булавкой — коллекционеру, из вежливости?
— Лучше бы пришел и делал вид, что меня нет. Пакостник…
В смятении и под гнетом выбора Лев провел до обеда. Открыл телеграм, чтобы проверить, не удалил ли его Антон. Не удалил. Странно. Горячев делал множество совершенно нелогичных поступков, которые Богданов никак не мог трактовать для себя однозначно плохо или однозначно хорошо. Вроде, жестоко обошелся со Львом, но то и дело опрокидывал с легкой руки крошки надежды на пол. Или Богданов просто хотел в это верить? Видел то, чего нет, как Антон в нем видел женщину?
Взгляд невольно упал на томик стихов, который подарил Горячев, а рядом с ним — на фотографию нестандартного формата. Она была согнута пополам, отчего и стояла на полке самостоятельно, без рамки. Светлое пятно памяти на черной мебели, где Лев моложе на семь лет стоит и улыбается вовсю. Стоит один, счастливый, в дурной цветастой футболке с принтом какой-то идиотской группы, ведром сладкого попкорна и чистой кожей на шее, щурится на солнце. Таким счастливым спустя эти семь лет он был только однажды, когда в его жизни появился Горячев. Когда будни вдруг перестали быть пресными, когда каждый день был наполнен страстным стремлением куда-то, к чему-то, зачем-то. Деньги, как ни удивительно, такого не давали. Статус — тоже. И даже странное увлечение Льва приносило лишь страх и паранойю. Работа и деньги — это вообще не про жизнь, это только средство к существованию. Бездушное и холодное, как внутренности дохлой рыбы, свиные кишки, коровья печень. Жить ты без этого не можешь, но этим жить — невыносимо. Лев жил. Слишком долго.
Решился Богданов только вечером. Решился крепко, уверенно, начал печатать. И через час, ровно в девять, отправил первое свое сообщение:
«Антон. Ты так меня и не выслушал, а я должен перед тобой объясниться. Обязан. Я не могу выбросить тебя из головы так просто, и даже если ты уже смог это сделать, мне все равно хотелось бы поговорить. Наверное, если бы я услышал такое лично, в здравом холодном уме, мне бы было легче поверить. Я правда прошу меня простить, я бесконечно перед тобой виноват — я знаю. Я знаю и то, что для тебя оказалось болезненным все это… Я далеко зашел с тобой. Так далеко, что не справился с управлением, хотя был уверен в себе. Меня к тебя тянуло и тянет непреодолимой силой. Все начиналось как игра. Ко мне часто приходили люди со своими фантазиями, просто реализовать больное прошлое, непрошенное настоящее, что угодно. Я не понимал, что в твоем случае это не было фантазиями! Что ты видел человека, искал человека. А когда понял, не смог отказаться, ведь иначе ты бы отказался от меня… Я прекрасно понимаю, как отвратительно это звучит. Но все это, весь этот обман не потому, что я урод моральный. (Или поэтому, я уже не знаю.) Просто мне очень сложно строить отношения, у меня тяжелый груз за спиной, о котором я мог бы, если бы ты согласился, тебе рассказать. Мне было невероятно сложно тебе признаться, когда между нами начала возникать симпатия. Ибо ты же повернут на женщинах… Ну как ты себе это представлял? Ты мог подорвать мою репутацию, мог нанести вред компании, себе, моим людям, своим людям, мог что угодно, Антон. Я сам понаставил перегородок и сам в них же запутался. Прости меня. Я ошибся. Я измучен, но без тебя совсем не могу. Хоть бей меня, хоть режь».
Сообщение оказалось прочитанным не сразу. Только в два часа ночи — после того как в инстаграме засветились несколько фото откуда-то с озера, с базы отдыха с этими деревянными домиками, маленьким причалом, большим костром, — Антон появился в сети. И не пробыл там долго. Ровно столько, чтобы можно было прочитать все и уйти. Через час после Богданов отчаялся. Выпил успокоительного столько, чтобы можно было уснуть крепко и без снов. Лев не врал Горячеву; он начинал терять равновесие.
Утро Богданова, однако, началось раньше, чем сработал будильник. Телефон коротко завибрировал возле подушки. И на экране — уведомление:
«Я умею отличать хорошее от плохого…»
Лев громко сглотнул, приготовился к самому худшему, протер рукой глаза, чтобы лучше видеть, и открыл сообщение.
«Я умею отличать хорошее от плохого. И остался, чтобы закончить здесь все дела, потому что хорошего было больше.
Не знаю, насколько ты это понимаешь, но я тебе доверял. Свое тело, свои мысли, свои чувства. Даже свою дружбу я тебе доверил. И для меня очень много значило это. Я очень благодарен до сих пор, конечно, не пойми меня неправильно.
Но на прошлой неделе, поверь, я блядски боялся, что первым делом пинок прилетит по Лехе. Типа — „я тебя породил, я тебя и убью“, знаешь? Потому что до этого я ДОВЕРЯЛ. ЦЕЛИКОМ. Я, блядь, самых близких людей подвязал на тебя, чмо тупое. Я, конечно, не ты.
А еще я тебе всегда говорил целиком всю правду. В том числе о том, что готов на все. Как ты думаешь, как сильно я должен был тебе доверять и хотеть тебя, когда готовился сидеть с вибратором в жопе перед руководством и хер пойми кем еще? Ну точно сильнее тебя.
Я, к слову, записал на диктофон весь тот пиздец. И не то что не передал его никому на пару с контрактом, на пару с данными, что никому ты не сдаешь никакое помещение и не занимаешься никакой психологической помощью официально… Даже сам не слушал. И я клянусь, что удалю запись следом за этой перепиской, как только закончится трудовой контракт. Пока так, чисто для подстраховки. Потому что без понятия пока, как вести диалог с человеком, который не знает, где заканчиваются границы его „я“, чтобы так врать и менять свои решения.