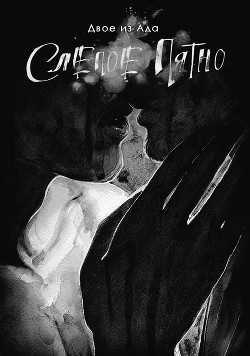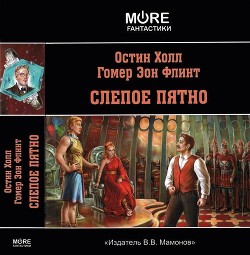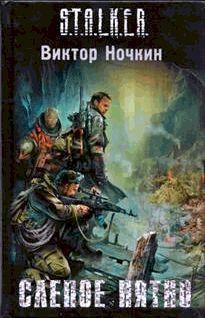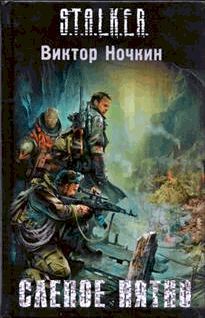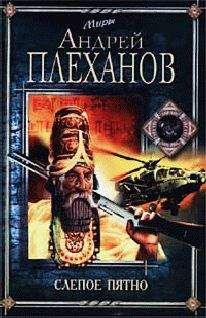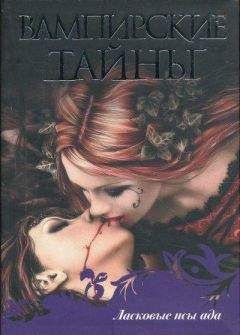— Я поеду, — констатировал факт Богданов, тоскливо взглянув на Горячева. — Пускай Роман побудет у тебя до завтра, ничего? Я найду, куда его определить… Ладно?
Антон, едва воспрявший духом, замер напротив. Он держал в руках еще пару сложенных вещей и, видно было, уже приготовился каким-то чудом разместить у себя на ночь двоих — но без нужды.
— Ладно. Можно до завтра. Может, больше. Я все понимаю… Позабочусь о нем, — взгляд Горячева был твердым. — А ты? С тобой все будет хорошо?
— Да, — кивнул Лев. А хотелось отрицать и приговаривать, что без Антона ему хорошо не будет в любом случае. — Попробую понять, что происходит. Я буду, — Богданов судорожно вздохнул, дернул рукой в желании погладить, дотронуться, сдаться своей слабости, — тебе писать. И ты мне. Обязательно, слышишь? Если что-то случится, сразу звони, и я прибуду в кратчайшие сроки…
Антон кивнул. Он хотел было что-то ответить, но в итоге только стиснул челюсти. Зато потом, когда Лев оделся, вдруг крепко взял его за локоть… Это была одна секунда. А в секунде — буря. Горячев буквально вытолкал его за дверь, не прощаясь. Повернулись замки, и остался Лев один на холодной лестнице, пропитавшейся запахом кирпичной пыли и сырости.
========== XX ==========
6.04-7.04. Страхи
Антон отошел от окна. Нет, это была уже даже не страшная сказка. Говорят, родившийся в апреле — всю жизнь дурак; вот и чувствовал Горячев себя не меньше чем полным идиотом, очнувшимся в комедии абсурда и не знающим, как оттуда выбраться. Беда была в том, что абсурд зачастую скрывал под своей нелепой оболочкой некую мощную проблему неразрешимого характера. Последняя надежда — в литературном анализе Антон не был силен еще в университете, а потому оставалось лишь верить, что и в своих аналогиях он ошибался.
Не прошло и пяти минут с того момента, как машина Богданова выехала с улицы, а Антон уже вытащил телефон. С каждым днем тот все сильнее и сильнее плоховал, реагируя на прикосновения пальцев к ранам-трещинам болезненной дрожью экрана.
«Видел лицо Романа? Если не будешь отвечать на мои сообщения и писать сам — я найду тебя и ты будешь выглядеть так же», — в сердцах написал Горячев. Страшно болела голова. Он всегда хотел быть сильным мужчиной — железным, яростным, непоколебимым. Но от того, что происходило с конца прошедшего месяца, все сильнее хотелось просто упасть на пол и выть. На переживания и на их осмысление сил уже просто не оставалось.
Когда Антон увидел Льва еще днем — понял, насколько все серьезно. И как бы ни противоречивы были мысли и чувства, а смотреть на человека, которого сначала хотел призвать к ответу, потом оттолкнул, испугавшись возможной правды о себе самом, — на то, как он мучается голодным ожиданием, на то, как пытается достучаться, стало невозможно. Теперь у Антона руки горели от душераздирающих прикосновений. Губы — от самого недолгого и неловкого в жизни поцелуя. Голова — от тяжелого, как раскаленный свинец, знания.
«А душа может гореть в аду за пороки уже в этом месяце, если я его не переживу», — было у Горячева такое ощущение. Постоянные нервные срывы, плохие люди, связь с тем, чью жизнь они хотели бы получить — приходилось приплюсовать к проценту летальных рисков еще и все это.
Антон вернулся на кухню. Роман, даже несмотря на побитый вид, в центре всей этой вакханалии выглядел эталоном спокойствия — Горячев жалел, что сам не выпросил чудодейственную таблетку. Сисадмина было искренне жаль. Даже больше: за него тоже все еще было страшно. Антон старался гнать из головы хотя бы часть дурных мыслей и не смотреть на товарища по несчастью, как на предвестника злого рока.
— Ну что? Легче? — Горячев осторожно отодвинул пакет замороженной брокколи, который Роман прижимал к лицу. Вблизи и на свету он выглядел совсем дурно — под опухшим веком глаза почти не было видно. — У меня тут не медпункт, но есть мазь от ушибов… Мне часто приходится биться о чьи-то кулаки — так после нее заживает все, как на собаке.
Антон выложил на стол наполовину скрученный тюбик, не отрывая взгляда от изможденного бледного лица. Будто еще вчера Горячев видел, как бритый амбал прикладывает Романа виском о стеллаж… А сегодня? Он думал: как же может быть, что человека так мучают? Как может быть, что мучаешься сам? И мучаешь других?
— Антон, я же у тебя на теплой кухоньке, а не в подвале с мудаками. Как думаешь, мне легче? — Роман издал звук, похожий на усмешку, но в его исполнении это было неясное фырчанье от заложенного носа. — А кто так начальника-то разукрасил? Все лицо в синяках…
Горячев помолчал. Вздохнул. Память до сих пор отказывалась воспроизводить тот эпизод в красках. Будто нахлынувшая когда-то ярость безвозвратно выжгла его.
— Я…
— Молоток, — кивнул Роман и закрыл глаза, откинувшись на стенку, возле которой стоял табурет. — Если за мной придут, врежешь им тоже.
— Можешь не сомневаться.
Кухня погрузилась в тишину еще на две минуты. Антон, чтобы чем-то занять время, уставился в экран телефона. Уведомлений не было. Сообщения Богданов пока так и не прочитал. Да и все как будто затихли, спрятались от ударившей по городу стихии. Нарушать покой людей, которые пока еще пребывали в мире, Горячев тоже больше не хотел, а потому вернулся к Роману. Последний смотрел на Антона со вниманием змеи, на которую внешне казался похож.
— Хочешь есть? У меня суп, курица и овощи на пару… Еще могу подогреть чай…
— Да, — сисадмин пожал плечами. Было в нем нечто неприятное, что часто отталкивает взрослых в подростках — чувство собственного достоинства. Воспаленное, мрачное и слишком раздутое. — Слышь, Горячев, а ты изменился за это время… Какое сегодня число?
— Шестое апреля. Тебя не было ровно месяц в общем…
У Антона появился еще один повод разблокировать телефон, прежде чем направиться к холодильнику и наполнить квартиру совершенно будничными, но оттого уютными в такое время звуками: звоном и скрежетом посуды, сочным чавканьем еды, гулом микроволновки…
— Трандец, — голос Романа надломился, но ненадолго. — Значит, ты превратился в человека за месяц. Я был уверен, когда первый раз увидел, что ты… Не понравился ты мне, в общем. Да и я тебе не очень. А сейчас прямо как человек.
— Ты меня не знал. Я тебя тоже. В людях, как оказалось, вообще очень легко ошибиться… Или, вернее, обмануться чем-то внешним.
Точку поставил последний истошный писк, и перед Романом появилась полная горячая тарелка. Дальше мысли Антона заглушал только шум воды. Так он и жил всю неделю: перебирал вещи, вытирал пыль в самых дальних углах, мыл полы и окна — даже целиком перепроверил и почистил жесткий диск, который с учетом специфики работы Горячева был все равно что помойка, в которую свое барахло годами скидывали разные заказчики. В этом бесконечно бездушном процессе эмоции вспыхивали отдаленным эхом, иногда толкая на резкие выходки, иногда — на нежности с самыми случайными предметами. Роман всем своим видом напоминал о предварившем его приход рассказе Льва. Раз — захотелось нож вогнать в глаза тем людям, которые могли сотворить подобное с обоими; но Антон смог лишь грубо вернуть его на подставку. А вот чашку, из которой Богданов так и не выпил, Горячев долго и неопределенно рассматривал, словно забыв, что с ней делать. Но опомнившись, бережно раздвинул для нее место на полке.
— Та-а-а-а-а-а-ак, интересненько, — криво улыбался Роман, закладывая за щеку немного овощей. — Первый приз в номинации «папочка для кружки» присуждаю Горячеву Антону! Колись, Антоша, кого ты там представляешь? А то такой мечтательный, что мне сейчас самому в уши зальется.
— Просто любимая. Подруга подарила, — буркнул Горячев. Укол подействовал на него отрезвляюще. И, вроде, не соврал о самой кружке — но ложь о собственных чувствах обожгла щеки.
— Ага, — издевательски хихикал Роман. — А пил из нее Богданов. Не осквернил, не? Любимую кружку-то?